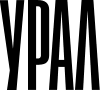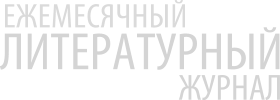2011 №7
Владимир Блинов
Владимир Блинов — родился в 1938 г. в Екатеринбурге. Окончил УПИ, член Союза
писателей России, член Союза архитекторов, профессор, лауреат литературных
премий.
Немелков
Документальный роман
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды…
Александр Пушкин
(Печатается в сокращении)
Часть
первая
С детства накипело
ПЕРВЫЙ. Я непременно должен написать о
нем. Не просто должен — обязан! Обязан по праву моего поколения, поколения
шестидесятников.
Герман Дробиз в стихотворении, посвященном памяти
Владимира Высоцкого, изрек:
…Зачем тянуть на хриплой ноте голос,
Зачем
терзать гитары хрупкой тело,
Когда бы все мы, кто с тридцать
восьмого,
Произнесли, что с детства накипело?
Извольте, одногодки, на
колени!
Не стыдно ли — один за всех. А вы-то?
Что надлежало крикнуть
поколенью,
Всего одним пропето и провыто!
Замечательное признание.
Однако есть в стихе натяжка. Всего одним? Конечно, голос и вопль Высоцкого несся
по всей стране и за ее пределами. Его магнитофонные записи, говорят,
распространяли в своем кругу даже кагебешники. Для артиста сценой стала страна,
Земля.
И все же был некто один. Действительно — один! Еще до того, кто
“выкрикивал хрипяще”, явился человек, который, как говорится в том же стихе
уральского поэта, “за меня, молчавшего, старался”. Один и первый!
Да-да,
еще никто не слышал об Александре Солженицыне, не было на общественном поле
брани ни Сахарова, ни Галича, ни Некрасова, ни Зиновьева, Александр Твардовский
не получил в свои руки свободомыслящий “Новый мир”.
Еще не успели
проявиться в литературе правдоискатели-почвенники.
Только-только после
ледникового периода повеяло весенним ветерком.
Именно тогда в Уральском
политехническом институте…
ВСПОМНИЛОСЬ И НАКАТИЛО. Так кто же он такой,
Артур Немелков? И что предшествовало его достопамятному мятежному
выступлению?
Немелков Артур Авенирович — родился 19 августа 1934 года в
городе Челябинске в семье слесаря, в последующем начальника автомастерских
обкомовского гаража.
ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ НЕМЕЛКОВА. “Мой родной
город имел одну очень интересную достопримечательность, а именно — главная,
центральная улица его носила имя не пролетарского вождя. Она называлась именем
человека, возглавившего в Древнем Риме восстание рабов, — Спартака. И не важно,
что Карл Маркс назвал его самым симпатичным парнем в античной истории, все равно
— пробил час, и улицу переименовали в улицу Ленина, хотя такая в городе уже была
(сейчас это улица Свободы). Мне уже тогда показалось, что данный акт —
свидетельство неуважительного мнения бюрократов и лизоблюдов даже к мнению
основоположника учения о коммунизме. А как было бы здорово, если бы на
центральной площади города возвышалась фигура Спартака! Увы, история, говорят,
не терпит сослагательного наклонения. И вообще, это была бы, очевидно, совсем
другая история”.
Ему дали имя Артур. Согласитесь, имя часто, очень часто
обязывает помнить тех предков, исторических персонажей, литературных героев,
которые носили подобное имя, быть достойным их.
Имя Артуру придумала
тетушка Юля, отцовская сестра. И не случайно: любимой ее книгой был роман Этель
Лилиан Войнич “Овод”. И когда Артуру исполнилось 12 лет, тетушка подарила ему
эту книгу с провидческой надписью по диагонали титульного листа: “Дорогой
Артурчик, наступило твое отрочество, впереди — юность. Расти умным и
мужественным, люби Родину. Счастье человека — в счастье человечества. Прочти эту
книгу, и ты, надеюсь, многое поймешь. Твоя тетя Ю.М.”.
Артур тогда же,
вскоре, прочел “Овода”. Книга поразила его, запала в душу. А в финале Артур
впервые тихо заплакал над книгой. Он воспринял Артура-Овода как историческое
лицо. Ради Свободы человек пошел на смерть. Был ли у него выбор? Конечно, был,
как у всякого человека, приходящего в этот мир. Он мог стать добропорядочным
буржуа, степенным семьянином, любить красавицу Джемму, мог пойти по стопам
своего отца и добиться видного положения в обществе… Нет. Он выбрал борьбу.
Борьбу за свободу родины.
Но то книга! Главный же материал для разбега
мыслей давала сама жизнь. А еще — порой откровенные, порой лишь с намеками
разговоры со взрослыми, особенно с отцом и с тетушкой. А больше — с Николай
Николаичем, человеком, поселившимся в соседнем доме барачного типа, прибывшим
оттуда, куда, говорят, Макар телят не гонял.
Знакомство с Николаичем
произошло на дворовой скамейке под старым тополем, шершавый ствол которого
напоминал ножищу огромного слона.
К последнему курсу техникума у Артура
проявился приятный басок. Музыкой он занимался и прежде. В доме появилось
пианино — совсем как у богатых москвичей, живших в шикарных квартирах. Отец
продал американское кожаное пальто, старенькую “эмку”, еще кое-что, кажется,
карманные дедушкины часы. Только чтобы обзавестись музыкальным инструментом:
пусть сын учится, авось выйдет музыкант или певец. По праздникам и по выходным
Артур накручивал рукоятку старенького патефона. Любимыми его пластинками были
записи Леонида Утесова, Изабеллы Юрьевой, Ивана Козловского и — Петра Лещенко.
Авенир, отец Артура, в довоенные годы пытался коллекционировать пластинки. Потом
забросил.
На общей любви к “пластиночному гению” Петру Лещенко и сошлись
недавний школьник и бывший зэк.
— Как-нибудь я расскажу тебе, Артур, о
Лещенко. Великий артист был! Ты знаешь, что сказал о его таланте сам Федор
Шаляпин? Он сказал: “Нам всем стоит поучиться у этого пластиночного певца!” Мне
поведал о Лещенко лепила, наш лагерный врач. Ему довелось слушать Лещенко и
присутствовать при его последнем часе. Я даже пытался кое-что
накропать.
Н.Н. приоткрыл дверцу тумбочки и показал пачку листов,
исписанных химическим карандашом. На верхнем листе было выведено
каллиграфическим шрифтом: “Последнее танго”.
ГОЛОДНЫЙ БУНТ. Шел второй
послевоенный год. Были отменены продуктовые карточки. Жить стало полегче. Однако
в пионерлагере “Томино” со жратвой было так туго, что ребята перестали играть в
футбол. У многих в ушах стоял какой-то непрекращающийся шум, часто кружилась
голова. Были объедены стручки акации, кто-то “надыбал” в лесу саранки и черемшу,
выкапывали полусладкие корни лопуха, жевали кисловатые стрелки-побеги сосенок. С
голодухи после жидкой баланды и каши-“шрапнели” без масла пионеры выпивали по
4–5 стаканов чая без сахара — надеялись утолить голод. Так было в первую смену,
началась вторая. Несмотря на обещания директора, питание не
улучшалось.
Старшеотрядники задумывали сделать подкоп под складской
сарай, обитый железом. Попытка сорвалась, едва ноги унесли от сторожевого
цепного пса.
Председатель совета пионерской дружины “Томино” Артур
Немелков приходил к старшей вожатой, к воспитателям: обратите внимание на то,
как питаются пионеры, это же ни в какие ворота!.. Напросился на прием к
директору:
— Иосиф Ильич!
Директор страшно гордился своим
именем-отчеством, которым его наградили предки: в нем слышались сразу два имени
двух лучших людей Земли.
— Иосиф Ильич! — насупив брови, обратился
председатель совета дружины к директору. — Почему плохо кормят? Примите меры.
Пожалуйста! Детям необходимы калории и витамины, мы знаем, в других лагерях —
гораздо лучше, обратитесь за помощью в обком партии, к дирекции ЧТЗ.
— Ты
меня не учи, — Ильич стукнул об пол палкой. — Знаю, к кому и когда следует
обращаться. Питание не столь плохо. Вы все привыкли ныть. Ты лучше проведи
беседу с председателями отрядов, разъясни положение, напомни, какую войну
недавно выдержала страна, необходимо восстановление разрушенных городов и сел,
нужны большие средства…
Вечером Артур собрал семерку председателей
отрядов. Собрались на поляне за территорией лагеря, разожгли костерок.
—
Ребята, — сказал Артур, — больше терпеть не будем. Можно, конечно, снова
попытаться сделать подкоп под склад. Да что толку? Во-первых, поймают — сдадут в
милицию, отправят домой, неприятности родителям. И потом, не накормим же этим
весь лагерь. Есть другой путь, поймать директора, связать его и… А еще лучше
заколотить дверь его комнаты и не выпускать. Пока не примет срочных мер. Этот
прием мы оставим на следующий раз. А пока поступим так…
На утренней
линейке Артур стоял рядом со старшей пионервожатой Лидой Волеговой, студенткой
пединститута. Оба, как и положено, — в белых рубашках, в отглаженных шелковых
галстуках. Лида незаметно косит глазом, любуется Немелковым: был бы он на два
года постарше!.. Артур нравится Лиде. И Лида нравится Артуру. Она —
единственная, кого он посвятил в тайну сегодняшнего действа. Лиде Волеговой
можно доверять — свой человек.
Тишина. Пора давать команду. Артур что-то
медлит. Но вот он видит, что все отряды построены. Директор и воспитатели
перестали переговариваться, это важно, и он зычным голосом командует:
—
Лагерь голодных, смир-р-р-но! Дежурным по помойкам сдать рапорт!
— Что
это? Что такое? Что за юмор? — завертел головой директор. — Прекратить
торжественную линейку!
Но председатель первого отряда строевым шагом
подходит к Немелкову и Волеговой и, отсалютовав, докладывает:
— Первый
отряд дистрофиков на утреннюю линейку построен. В отряде — шестнадцать человек.
Восемь человек пухнут с голоду, трое отказываются принимать шрапнель, четверо
решили питаться жареными кузнечиками, один, обессиленный, находится на
постельном режиме. Рапорт сдан! — И снова салютная отмашка.
Разъяренный
директор устремляется к трибуне и, размахивая палкой (одна нога у него была
повреждена в молодости), уже не кричит, а рычит:
— Прекратить! Разойтись
по корпусам!
Но председатель второго отряда, обогнув директора,
звонкоголосо, торопливо, захлебываясь, докладывает:
— Отряд доходяг
выражает недоверие дирекции лагеря и начинает сборы вещей для отбытия в
Челябинск!
— Это безобразие! — кричат уже не только директор, но и
поддерживающие его воспитатели.
И только Лидия Волегова, старшая вожатая
(алый шелк галстука, бесстыдно касающийся выпуклостей беленькой безрукавки),
негромко произносит:
— Товарищ директор, линейка не закончена, мы обязаны
выслушать все рапорты и затем поднять на мачту флаг. Горнист, барабанщик,
готовы?
— Какой флаг? Какой, к черту… э-э-э, виноват, разве можно
поднимать красный флаг, когда мы слышим от этих сопля… от этих, от этих
молокососов антисоветские речи? Вы, вы-ы-ы за это ответите! Вы забыли о своих
идеалах!..
Как будто только этой любимой директорской фразы об идеалах и
ждали пионеры-томичи. Самые младшие, октябрята, которые, кажется, и не понимали,
что здесь происходит, по взмаху руки воспитательницы, Лидиной однокашницы,
затянули ангельскими голосками:
Ах, картошка,
объеденье-денье-денье,
Пионеров идеал-ал-ал,
Тот не знает
наслажденья-денья-денья,
Кто картошки не едал-дал-дал!
Это не по
сценарию, подумал Артур, но тоже в жилу. Может, Лида постаралась?
ВЫПИСКА
ИЗ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ПИОНЕРЛАГЕРЯ
“ТОМИНО”
ОТ 15 ИЮЛЯ 1947 ГОДА
Слушали: сообщение директора лагеря
“Томино” о недостойном поведении Немелкова Артура, Бойцова Вадима, Гнедышевой
Татьяны и других.
Постановили:
1. Оценить выступление на утреней
линейке А. Немелкова и других пионеров (список прилагается) как недостойное
звания пионера, наносящее клевету на советскую действительность.
2.
Провести собрание родителей указанных пионеров с целью усиления надлежащей
воспитательной работы.
3. Передать настоящее решение в школы (по списку)
с целью исключения из рядов пионерской организации зачинщиков антисоветского
выступления.
В послеобеденное время Артура Немелкова и всех участников
вчерашнего костра вызывали по одному в директорский кабинет.
Директор,
воспитатель А.С. Азерова и секретарь партячейки, руководитель кружка “Умелые
руки” Рифхат Гайсин учинили пионерам настоящий допрос. Главное, чего добивалась
“тройка”, — кто был зачинщиком заговора, кто его тщательно готовил, кто
придумывал изуверский сценарий?
Дольше всех держали на допросе Немелкова.
Артур или молчал, как бы не слыша вопросов Гайсина, или отвечал:
— Ничего
не знаю, никто меня не учил, ни с кем не встречался и не договаривался. Просто у
всех накипело! Я отвечаю только за свои слова. А вам, товарищ директор, не
следовало бы разбрасываться подобными обвинениями, ни я, ни мои товарищи против
советской власти не выступали.
Директор вскочил из-за стола, загремела
табуретка:
— Вон из кабинета! Ты еще у меня попляшешь! И ты, и твои
родители!
Не мог же Артур Немелков признаться, что “заговор” придумал он
сам. К чести его товарищей-пионеров, председателей отрядов, никто из них также
не сознался в каком-либо заговоре, и о совещании у костра — тоже молчок. Как
партизаны!
Дело дошло до райкома комсомола. Приехали родители.
“Заговорщиков”, конечно, пожурили, нельзя так, не доросли еще. В то же время
создали небольшую комиссию, опросили многих ребят о питании, о порядке в лагере.
Тут же потребовали открыть склад, проверить наличие продуктов... Каково же было
удивление собравшихся, когда на полках обнаружили и рис, и гречневую крупу, и
манку, и свиную тушенку, и в достаточном количестве сахар, и сухофрукты для
компота. И даже — красные шары голландского сыра!
Хорошо, что среди
родителей нашлись люди грамотные, незапуганные, да представитель райкома
оказался деловым порядочным человеком. Вечером на ужин всем лагерникам выдали по
полстакана сгущенного молока. И до конца смены кормили как на убой. Головы
перестали кружиться, шум в ушах исчез, на большой поляне зазвенели ребячьи
голоса — начался межлагерный чемпионат по футболу.
В следующем заезде в
пионерлагере “Томино” был уже другой директор.
Впрочем, райком комсомола
не счел возможным рекомендовать на третью смену в качестве старшей пионервожатой
Лидию Волегову.
Закончив семилетку, А.Н. обучался в “Машинке” —
Челябинском машиностроительном техникуме. Затем с красным дипломом решился
поступить в Московский ордена Ленина авиационный институт имени Серго
Орджоникидзе…
Московские мытарства. …Вместе с тремя однокурсниками
поселился в деревне Щукино. Компания свойская! Плата за койко-место в хибаре
дяди Жени, тихого алкоголика, 100 рублей — сходная. И все остальное, на мой
неизбалованный вкус, было подходящим.
Осень выдалась теплой. В нашем
засыпном пристрое есть печка. Дров хозяева дают в неограниченном количестве,
наколоть чурок — не проблема. Туалет на дворе — тоже не беда, чай, не баре, а
мечтать о теплом сортире — удел стариков.
Квартиранты держались
бодрячками лишь до первых заморозков.
С наступлением морозов, сразу же
после демонстрации в честь 36-й годовщины Великого Октября, оптимизма у жителей
хибары поубавилось. Колка дров, сучковатых, непокорных, да в больших мокрых
варежках, уже не казалась доброй заменой физкультуре. Сырые дрова шипели, никак
не хотели разгораться. Старая, потрескавшаяся печь нещадно дымила. Часа через
полтора в засыпухе становилось настолько жарко и влажно, что тебе субтропики.
Однако ноги даже в валенках или в ботинках с шерстяными носками все равно
мерзли. За полночь дом настолько остывал, что студенты напяливали на головы
шапки-ушанки, а сверху укрывались полосатыми матрацами с пустующих
коек…
Однажды, стремясь ухватить жар, трубу закрыли слишком рано. И если
бы не подоспевшая тетя Шура, тыкавшая “сынкам” в нос вату, смоченную нашатырным
спиртом, неизвестно, проснулись бы бедолаги к первой лекции, и вообще проснулись
ли…
Однако молодость полна веры и юмора. Когда поутру в кружках
обнаруживали застывшую воду, смеялись, включали старую, заляпанную
электроплитку, пили, за неимением грузинского, фруктовый плиточный чай,
наворачивали краюху пшеничного хлеба и устремлялись пешедралом в сторону
Киевского вокзала, на метро — не опоздать бы к первой паре!
Немелков
сдавал лабораторные работы, участвовал в семинарах по марксистско-ленинской
философии. Своей активностью он вносил в занятия живость, проблемность,
дискуссионность, что расшевеливало и других заспанных и робеющих студентов.
Однако дотошность уральца нередко настораживала профессора остротой вопросов,
порой просто ставила в тупик. Опытный педагог подумывал о том, чтобы укоротить
паренька, предостеречь его: этакая революционная пылкость может повредить ему в
жизни, в карьере. Особенно хорошо давались Артуру точные дисциплины — физика,
высшая математика. А по теормеху он сумел даже получить “автомат” у самого
профессора Свешникова. Однако голова Артура была занята другим. Неотвязно,
постоянно. Он жалел, что в ту пору у него не было рядом надежного собеседника.
Преподаватели казались недоступными. Одногруппники не производили впечатления
критически думающих людей, и доверять свои мысли не слишком знакомым приятелям
было небезопасно.
Артур посмеивался над собой: даже девушки в это время
отошли на второй план. Мысль для него стала творчеством. Творчество вело к
переосмыслению социального устройства страны, к необходимости раскачать
окостеневшую систему.
Нет, ни у него, ни у многих из нас,
шестидесятников, не было и в мыслях свергать советскую власть, восстанавливать
алчный капитализм. Однако всякий думающий человек видел столько
несправедливости, жестокости, страха, лицемерия, лжи, догматизма, что не мог не
прийти к выводу: дальше так жить нельзя.
Проживание на далекой частной
квартире, невозможность выкраивать квартплату из небольшой стипендии и деньжат,
присылаемых отцом,— все это заставило задуматься: не перевестись ли в уральский
вуз, поближе к дому?
Но вот, казалось, счастье улыбнулось — ректорат
объявил о строительстве общежития. Добровольцам, записавшимся на стройку,
обещано место в новой общаге. Закончилась сессия, всем выдали рабочие робы и
брезентовые рукавицы, и вдруг… вызывают стройотряд в большую аудиторию, и
секретарь комитета ВЛКСМ в присутствии проректора зачитывает инструктивное
письмо ЦК комсомола, в котором говорится о запрещении использования
студенческого труда во время каникул.
Что делать? Пригорюнились юные
строители-бесквартирники и хотели было расходиться. Но студент Немелков попросил
слова и в довольно резкой форме высказал мнение о том, что руководство комсомола
не знает нужд студенчества и тем самым не способствует успешной учебе, а
вынуждает некоторых просто-напросто бросить институт, забыть о высшем
образовании, гарантированном Конституцией...
Проректор в строгой форме
осадил бунтаря-одиночку и, то надевая очки на нос, то размахивая ими над
головой, пояснил, что не дело какого-то первокурсника идти вразрез с
инструктивными указаниями, тем более что в письме ЦК отражена забота партии и
правительства о формирующемся поколении ученых и производственников. Дальше
проректор чуть ли не пропел:
— Чтобы тело и душа были молоды, закаляйся,
как сталь! А закаляться можно лишь во время полноценного отдыха, то есть
заниматься спортом, купаться в речке, загорать на солнце…
— Бред
какой-то! — воскликнул в ответ Немелков, — Вы, наверное, не жили ни на частной
квартире, ни в общежитии и не знаете, что значит тащиться за тридевять земель да
еще отдавать за халабуду чуть ли не полстипендии. И потом — разве человек в
период законного отпуска или каникул не вправе распоряжаться своим временем? Мы
пойдем в райком комсомола, уверен — там нас поймут.
В райкоме разговор
оказался не менее жестким. А на реплику Немелкова о том, что комсомол совсем
потерял свое лицо и без указаний сверху не может и шагу ступить, второй
секретарь московского райкома ВЛКСМ встал и, пристально глядя в глаза Артура,
холодно произнес:
— Ты откуда такой взялся, что смеешь указывать не
только нам, но и… Ты, кажется, с Урала прибыл? Может, тебя направить на
перевоспитание в рабочий цех на Магнитку?
Позднее Артуру припомнится
фраза о перевоспитании. Потом, когда он решится на главное.
Студент
понял, что здесь ему правды не добиться. Не заявиться ли непосредственно в
Центральный Комитет партии?
Но тогда пороху не хватило.
…В
УРАЛЬСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ. В УПИ имени С.М. Кирова без особых затруднений
приняли Артура Авенировича Немелкова переводом из Московского авиационного на
второй курс самого престижного по тем временам, почти секретного,
физико-технического факультета. Как раз несколько мест оказались свободными: ряд
студентов не выдержали серьезной нагрузки и были отчислены, а план выпуска
специалистов столь серьезной специальности, связанной с оборонной техникой,
необходимо строго выполнять.
Удовлетворяла ректорат, общественные
структуры, спецотдел, деканат и биография переводившегося: наш, челябинец, из
рабочего класса, отличник учебы, в период обучения в техникуме был секретарем
комсомольской группы.
В МАИ, спасибо, не припомнили бузы неудавшихся
строителей и подмахнули Немелкову положительную характеристику.
“НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ”. Экземпляры журнала “Новый мир” с романом Дудинцева попали в
общежитскую комнату от знакомой библиотекарши. Попали как списанная литература,
с бдительно вырезанными библиотечными штампами. От нее и узнали — из высших
инстанций, из Гослита, то бишь советской цензуры, поступило распоряжение об
изъятии крамольного произведения из фондов библиотек.
Для Немелкова, чьи
мысли давно метались в поисках правды и справедливости, роман Дудинцева стал
озарением. Не только сам роман, но отношение к нему, признание среди думающих
студентов и преподавателей и поношение со стороны партийных дураков-догматиков.
И что же, как прежде, ждать, молчать, влюбляться, пить портвешок и
“Жигулевское”? Пусть решают и борются другие? Так, что ли?
На ХХ
партийном съезде Хрущев решился, кажется, сказать правду. Но всю ли? Что-то не
видно особых изменений в жизни. Люди по-прежнему зажаты, испуганы, в рот воды
набрали. Говорят, было закрытое письмо к членам КПСС. Почему закрытое, от кого
прячут правду?
Но и без письма нужная информация доходила до тех, кто не
желал существовать в атмосфере полуправды.
ЗАПРЕЩЕННОЕ ПИСЬМО. Однажды
после семинарских занятий староста соседней группы, парень, отслуживший до
института в армии, с кем Артуру приходилось заседать в факультетском бюро
комсомола, дал ему папку с листами папиросной бумаги с бледной, слабой
машинописью:
— Почитай. Только просьба — больше никому… Завтра
верни.
Придя в общагу, прихлебывая чай — жидкий, зато горячий! — Артур
уселся в видавшее виды кресло-развалину и — благо ребята еще не пришли — жадно
впился в данный ему на ночь текст.
“Я правду о тебе порасскажу такую, что
хуже всякой лжи” — эти слова были напечатаны в верхнем правом углу шуршащего
листа хрупкой папиросной бумаги. Значит, слова эти — нечто вроде эпиграфа. Чьи
слова — не обозначено. Кажется, из Шекспира…
Так, указан автор — Ф.
Раскольников. Настоящая фамилия или псевдоним? Документ назывался “Открытое
письмо Сталину”.
Артур прочитал письмо раз и другой. Да, это будет,
пожалуй, похлеще того, что сказал на съезде Никита Сергеевич.
Судя по
тексту, автор работал в полпредстве Болгарии и, видимо, вовремя скрылся, избежав
ареста и расправы: другие сотрудники, от шофера до военного атташе, были
расстреляны.
Открытое письмо, размноженное Ф. Раскольниковым и
отправленное по многим адресам, лаконичное и емкое, казалось огромным по смыслу.
Раскольников последовательно раскрывал все преступления Сталина и его сатрапов.
Расправу с интеллигенцией, зажим талантливых писателей, сжигание книг неугодных,
расстрел лучших командиров Красной Армии, травлю инженеров и директоров — как
“скрытых, еще не разоблаченных вредителей”, извращение идеи коллективизации
крестьян…
Артур встретил в письме знакомые имена пострадавших и погибших
в тюрьмах.
В старом отрывном календаре, хранившемся в родительском доме,
он разглядывал портреты маршалов, имена которых не произносились, о них молчали,
как будто и не было этих героев Гражданской войны: Блюхер, Егоров… Отец приказал
спрятать календарь подальше.
Встретил Немелков в тексте письма и другие
имена, ему незнакомые, но, видимо, в свое время, пока с ними не расправились
органы, популярные и авторитетные. Борис Пильняк, Сергей Третьяков, Тарас
Радионов, Галина Серебрякова… Надо посмотреть в довоенной энциклопедии в
терракотовом переплете, что чудом сохранилась в фондах институтской
библиотеки.
А вот еще имя! “Где лучший конструктор советских аэропланов
Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева,
Сталин!”
Казалось, Раскольников переходит от пощечин к выстрелам в
адресата. Когда написано? 17 августа 1939 года. Как решился на такое
Раскольников?
“Мне было трудно рвать последние связи не с Вами, не с
вашим обреченным режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я был
без малого 30 лет… Мне мучительно больно лишаться моей родины”.
Один из
немногих, кто восстал…
Вспомнилось и другое: “Командую флотом. Лейтенант
Шмидт”.
Что стало впоследствии с Раскольниковым?
“Один, как
прежде. И убит”?
Противоречивые мысли толклись в голове
студента.
Артур, как и многие другие, с детства видел в Сталине
гениального вождя, сломившего вместе с армией и ее маршалами хребет фашистской
силе черной, пел в школьном хоре тоненьким голосом: “От края и до края, по
го-о-о-рным верши-и-и-нам, где гордый орел совершает полет, о Сталине мудром,
родном и великом прекрасные песни слагает народ”; читал на торжественной линейке
стихи Михаила Исаковского: “Спасибо вам, что в дни великих бедствий… вы думали в
Кремле… Мы так вам верили, родной товарищ Сталин, как, может быть, не верили
себе”… (правда, последние строчки наводили Артура на неприятное размышление: что
значит — не верили себе, что мы, бараны какие-то, что ли?); стоял в почетном
карауле у портрета генералиссимуса в челябинском техникуме, когда “отца народов”
вносили в Мавзолей на Красной площади, гудели-рыдали заводские гудки,
остановились станки и машины, плакала большая осиротевшая страна Советов — все
это удерживала память с раннего детства, отрочества…
Но и другое
доходило, многое узнавалось, нашептывалось, передавалось из уст в уста.
И
как было совместить в одном сердце и разуме: великий вождь великой державы и
тот, кого, по предсказанию Раскольникова, “посадят на скамью подсудимых как
предателя социализма, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора
голода и судебных подлогов”?
И занес Артур Немелков в синюю тетрадку одну
цитатку из Раскольникова: “Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость
напряженного труда, недоедания, холода, скудной заработной платы, жилищной
тесноты и отсутствия необходимых товаров (Все как и в наши дни, хотя писалось
письмо в 39-м году! Пометка Немелкова. — В.Б.). Он верил, что Вы ведете к
социализму, но Вы обманули его доверие. Он надеялся, что с полной победой
социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о
великом братстве людей, всем будет жить радостно и легко (подчеркнуто
Немелковым. — В.Б.). Вы отняли даже эту надежду: Вы объявили социализм
построенным до конца. И рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга:
если это социализм, то за что боролись, товарищи?”
И еще над одним
фрагментом долго думал Артур, где автор письма говорил о том, как была
растоптана демократическая, правильная по идее, Конституция. А стала клочком
бумаги. “Вы превратили выборы в жалкий фарс голосования за одну-единственную
кандидатуру… Хозяином земли советской является не Верховный Совет, а Вы… Вы
сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию… Вместо того, чтобы
пойти по линии намеченного конституцией поворота, Вы подавляете растущее
недовольство насилием и террором…”
Конституция, или, как ее называли,
Сталинская конституция, была восторженно принята в 1936 году. Раскольников
решился сказать правду в 1939-м. Шел пятьдесят шестой. Что же изменилось с точки
зрения следования справедливым статьям Конституции?
Молодость. Слово
“молодость” ни с чем не рифмуется. Молодость, она и есть молодость. И хоть в
студенческом общежитии жили небогато, но не тужили, ждали редких посылок из
сытной Кубани, а стипендии хватало, чтобы купить абонемент в студенческую
столовую, где кормили вполне прилично.
По субботам — святое дело — банный
день. И банька упийская рядом — за главным корпусом. Потерев друг другу спины,
бежали домой, баловались пивцом и другими дарами Бахуса (до горняков нам было в
этом отношении далеко, но и сами небезгрешны). Ну как тут не пойти на танцульки
в фойе главного корпуса, где во время томного танго или энергичной рио-риты
закадрить девчонку с соседнего факультета…
Так в жизнь Артура вошла
Раечка с радиофака — черноглазая, с лукавой улыбкой, с хохляцкой фамилией,
видать, казацких смешанных кровей. Не думал не гадал третьекурсник, обхватывая
упругую, горячую, деликатно отстраняющуюся спинку Раи, что в его руках,
возможно, судьба.
ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО? Просыпаясь раньше других лежебок,
сделав ускоренную зарядку, Артур, попивая чай, пытался понять: почему он, именно
он, а не кто-то другой, задумывается над нелепостями жизни, над несовершенством
управления родным, социалистическим государством? Ведь что такое государство?
Да, это система управления, регулирования и даже необходимого принуждения и
наказания. Но социалистическое государство обязано выполнять эти функции во имя
народа, а не вопреки ему… Организация выборов, назначение на высокие должности
исключительно партийных товарищей, а способнейший, будь он хоть семи пядей во
лбу, не займет этого руководящего кресла никогда, ни-ког-да.
Правда, как
говорится, для отмазки партия в виде исключения допускала на высокую должность
беспартийного товарища. Так, президентом Уральского отделения Академии наук СССР
с высочайшего партийного согласия был избран замечательный ученый-физик Сергей
Васильевич Вонсовский, никогда в ВКП (б) не состоявший. Более того, академик
вступил в законный брак с женой (вдовой) своего друга, погибшего в ГУЛАГе,
усыновил детей “врага народа”.
А конституционные права, заявленные во
многих статьях, — разве они выполняются? Кажется, есть Советы депутатов
трудящихся… Слово-то какое хорошее — Советы… Советы, совесть… Совет может
содержать мудрое наставление, направить на путь истины, отвести от худого дела,
наложить вето, может дать доброе пожелание — совет да любовь. Но кто с ними, с
советскими учреждениями, когда-то придуманными, нет, не большевиками, а самим
мудрым народом, кто с ними считается? Все приказы, указы, законы, постановления,
распоряжения — исключительно из стен обкомов, горкомов, ЦК!
Артур пытался
остановить разбег своего разгоряченного сознания, даже посмеивался над
“внутренним голосом”, спорил с ним. Тебе чего, больше всех надо? Куда ты прешь?
В какие сферы вознесся? До Центрального Комитета дошел! Может, тебя не
устраивает сам социализм и ты задумал заменить его капиталистическими порядками?
Нет, это — нет, только не это. Социализм, но только другой, совершенный,
правильный, человечный.
Может, возмечтал студент вырваться в лидеры и
занять высокие посты в городе, в области Уральской, а то и в стране?
Бонапарт?!
Не было этого в его мыслях.
Двигало его мыслями и
тревожным сознанием чувство необходимой справедливости. Не для себя — для
окружающих. Ну, и для себя в том числе.
Наверное, это чувство было
присуще многим русским людям — и крепостному крестьянину, мечтавшему вырваться
всей общиной из барской зависимости, и высоким военным чинам — вспомним заговор
тех, кого после выступления на Сенатской площади назвали декабристами, и
интеллигенции, начиная от Александра Радищева… Вспомнилась Артуру и надпись на
пушкинском рисунке, где был чернильный набросок повешенных мечтателей-мятежников
и рукой поэта начертано: “И я бы мог”. Интересно, какой знак поставил Александр
Сергеевич в конце этой фразы: точку или вопросительный знак? А может, и
восклицательный?
И себе Артур задавал этот же вопрос: а ты, ты, Немелков,
смог бы? Но что задавать никчемные вопросы. Если бы даже смог, то с кем? Где
твои единомышленники? Существует ли хоть какое-то, пусть нелегальное, сообщество
людей, которые так же болезненно воспринимают справедливость и на деле, а не на
бумаге стремятся осуществить великие принципы свободы, равенства,
братства?
Ну, что же, если такого сообщества нет, пока нет, то стоит его
создать.
Да.
БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ. Долгожданные и быстрокрылые каникулы!
Домашняя пища в Челябе, танцплощадка в центральном парке, встреча с
одноклассниками, а главное — с закадычным другом Волькой Бородиным, который тоже
прибыл на каникулы из Москвы.
Шумно дыша после вольной борьбы на песчаном
пляже, посмеиваясь и подтрунивая друг над другом, они усаживаются поудобнее на
видавшем виды байковом одеяльце, раскупоривают бутылку доброго армянского
портвешка по рубль сорок две, и — начинается беседа откровенная, без оглядки,
разговор по душам, какой только и может происходить между друзьями.
—
Знаешь, Волька, я пришел к выводу: нельзя сидеть сложа руки. Заметь, прошел
съезд партии, и что дальше? Ну, разоблачили культ…
— Стоп! Со Сталиным
тоже не все просто. Мой старший брат как-никак капитан внутренних войск, он
говорит, поспешили с разоблачением вождя. Народ не готов.
— Готов — не
готов, когда-то надо сказать правду, избавиться от рутины, от несправедливости,
восстановить в правах тех, кто незаконно пострадал.
— Это можно было
сделать и без всяких разоблачений культа личности. Теперь такая может начаться
заваруха! А то, что в нашей жизни столько подлости, лицемерия, чванства… Ты
знаешь, о ком я говорю, — Всеволод ткнул пальцем в небо. — В этом ты, дружище,
прав…
— Разве люди о таком светлом будущем мечтали? Правды боятся,
критического слова не приемлют. Комсомол — какое-то стадо бездумных овечек.
Сталина разоблачили, но кто сидит там, в верхах? Старперы! Которые не видят
будущего страны! Кормят нас одними обещаниями.
— Погоди, погоди. Не
горячись, ты не на съездовской трибуне, — смеется Волька, разливая вино в
охотничьи стаканчики. — И мой тебе совет, не выноси своих мыслей дальше
пляжа.
— Как же не выносить? Молчать в тряпочку?
— Мой брат обычно
советует: не спеши. Осмотрись. Посоветуйся с умным человеком, а уж тогда или
действуй, или смирись. Учись на чужих ошибках. Ты думаешь, с прошлым покончено?
И больше не будет никаких культов? И ты сможешь выйти на челябинскую площадь
Ленина и высказать все, что хочешь? Запомни, Артурчик, слово не воробей, поймают
— вылетишь!
— Это что еще за новая пословица?
— Сама получилась.
Хорошо, если только вылетишь из института, а то и полетишь на отдых во “вторые
Сочи”.
— Куда-куда?
— В Магадан! Помнишь, есть на карте СССР такой
город?
— Каким ты, Всеволод, однако, осторожным стал.
— Спасибо,
трусливым не назвал. Не осторожный, а мудрый — Москва научила.
— Ты
прочел “Не хлебом единым”?
— Читал. Ну и что?
— Там — правда! И за
нее надо бороться!
— Вот писатель и поборолся. Дали ему просраться,
обличили и партийные критики, и писатели, ходившие в товарищах. Нет, его не
посадят. Но и печатать не будут. Надели намордник — молчи!
— А мы… Я
молчать не буду. Надо действовать.
— Уж не задумал ли ты изменить в корне
наше общественное устройство? Да с тобой небезопасно водиться, друг
мой…
— Волька, не ты ль не столь давно, на выпускном вечере, с жаром
декламировал “Безумству храбрых поем мы песню”?
— Когда это было… Ох,
чувствую, Артурчик, задумал ты что-то неладное. Не горячись, подумай о
последствиях.
— Если бояться последствий, можно всю жизнь прожить,
помалкивая в тряпочку, а у нас, у меня, есть такое право — быть
гражданином.
— О, какие громкие слова! Прямо-таки афоризмами заговорил,
что тебе Николай Островский или Павка Корчагин. Можно я запишу?
— Ах, ты
так? Получай за это!
И друзья вновь сцепились в бою, падая на песок,
вскакивая и вновь падая, пытаясь положить соперника на лопатки или зажать в
двойном нельсоне. Порой крепко доставалось тому и другому. Такая у них была
дружба. Такая игра.
И был момент, когда Волька на мгновение оказался
наверху. Он жал и жал Артура, пытаясь придавить на лопатки. И Артур увидел
нависшие над ним, в упор глядящие ледяные, волчьи глаза.
“А ЧТО САМОЕ
ГЛАВНОЕ?” Не я один задумывался: как становятся революционерами? Нет, не те, кто
оказывается в рядовых членах боевой дружины (нечего терять, кроме своих цепей)
или подпольной организации (часто по недомыслию), а те, кто понимают первыми:
надо бороться, необходимо действовать, не лежать по-обломовски на диване, не
ждать чуда по щучьему веленью, а по убеждению, по осознанию — взбудоражить
общество, своим примером убеждать — настала пора. Может, и взяться за
оружие?
И Артур задавался таким вопросом. Спрашивал сам себя: зачем тебе
это — думать, мудрствовать, анализировать, возмущаться,
готовиться?..
Николай Николаич говаривал, раздумчиво куря:
— Ты,
Артур, пойдешь далеко. В тебе для этого есть все — ум, азарт, голос и даже рост.
Да-да, не усмехайся, для вождя важно все…
— Какой же я вождь?
—
Ты? Прирожденный! Если не вождь, то вожак, лидер. Один рост и голос чего стоят!
Хотя вожди-карлики такого натворили… Но если серьезно, я многое понял и
разглядел в тебе из наших, пусть немногих, разговоров… Понял, что ты готов
знаешь к чему?
— Интересно, к чему же?
— К самому
главному.
— А что самое главное?
— Ты сам ответишь на этот вопрос.
И ответ может быть непростым, более того — страшным. Вспомни русских бунтарей…
Аввакум, Радищев, декабристы… Может быть, Пестелем двигал бонапартизм, но зачем
было создавать тайное общество, выводить солдат под картечь, идти на эшафот?
Заранее знать и быть готовым даже… даже к виселице или расстрелу. Что князьям,
дворянам Трубецкому, Волконскому, Пущину, Лунину, поэтам Рылееву или
Кюхельбекеру мало было государственного довольствия, теплой постели с любимой
женкой, дружеских застолий, увлечения охотой или азартными играми, праведных
трудов и разнеженного, праздного отдыха в отеческом имении — в общем, всего
того, что дает человеку милая, жадная, многообразная, единственная
жизнь?..
— А Софья Перовская?..
— И она — тоже. Хотя, если
говорить о народовольцах, никак не могу понять их террора, чего добивались, так
ли надо было действовать… Перовская — одна из самых загадочных личностей в
русской истории. Тут не одна любовь к Андрею Желябову, нет. Как, почему, откуда
в этой дворянской, в неге воспитанной девушке такая страсть переделывателя
бытия, готовности к самому страшному? Во имя чего? Собственных благ? О, нет и
нет, во имя блага народного, во имя живущих и страдающих и во имя тех, кто будет
жить после.
— Согласен, Николаич, на такое не каждый отважится. Я тоже об
этом думал.
— Значит, я угадал! Храни тебя Господь на этом пути. И мне
казалось в молодости, что готов на большое. Жизнь сломала меня… Но вот, Артур,
какая загадка существует. Власти хорошо изучили человеческие слабости —
трусость, зависть, предательство, доносительство, алчность, продажность и —
СТРАХ. На вдалбливании в головы людей лживых ценностей, на временных подачках и
на насилии и страхе они удерживают обывателя в узде. И будут думать, что их
всесилие над обществом вечно. Но они не знают или забывают о непременной стороне
человеческой личности — способности к сознательной жертвенности. Именно эти
немногие, Артур, немногие личности способны поднять голову, раскрыть глаза
затурканной массе, разбудить ее, повести на площади, на баррикады, на
Голгофу…
“НАША ПРАВДА”. Итак, руководитель сектора по
политико-воспитательной работе… С чего начать? Как не вспомнить практику
профессиональных революционеров: начинать надо с печатного органа, как начинало
Северное общество с “Полярной звезды”, как начинал Ленин — с “Искры”. Хорошо бы
придумать броское, зовущее название: “Пламя”, “Новое дело”, “Чистое небо” или
просто и дерзко — “МЫ”. Но чтобы выпускать газету или небольшого формата журнал,
надо подобрать и сплотить единомышленников. Это — первое, газета —
потом.
Решили собраться в красном уголке общежития попозднее, чтобы не
было посторонних, ненужно любопытных, просто мешающих. О сборе Артур объявил в
конце занятий, открыто, безо всякой тайны: хотите заниматься в кружке, чтоб
обсуждать политические вопросы современности, — милости просим в девять
ноль-ноль. Немелков думал, набьется полная комната, хватило бы стульев. Однако
пришли шесть человек: Петр по прозвищу Великий (видимо, из-за баскетбольного
роста), Вова с Ритой, Митя-очкарик, Андрей, сталинский стипендиат, и,
естественно, — сам инициатор собрания Немелков. И, немного припозднившись, когда
уже начали обсуждать проблемы и круг интересов кружка, деликатно постучав в
дверь, явился к общей радости — комсорг группы Леня Новиков.
А.Н.: Так,
ребята, что-то негусто нас набралось. Я знаю, неравнодушных студентов гораздо
больше… Ну, ничего, лиха беда — начало. Предлагаю решить, что за структуру мы
создаем: общественный семинар, дискуссионный клуб, студенческую трибуну?
Одновременно выберем руководителя…
Л.Н.: То, что касается руководителя, —
вопрос, мне кажется, решенный, сам придумал — сам и руководи. Так, товарищи? Нет
возражений? Только есть предложение: не будем давать громких, претенциозных
названий нашему начинанию, чтобы в институтских, партийных верхах или других
кругах нас не приняли за некую нелегальную группировку. Просто — кружок. Кружок
по изучению общественных проблем современности. И — никаких президентов,
председателей, что может кое-кем быть истолковано по-своему. Просто —
координатор, а еще лучше — староста, как и в студенческих группах, староста
кружка. Согласен, Артур?
А.Н.: Ну, староста так староста, мне — без
разницы, главное, чтобы нам всем было интересно. Время-то какое весеннее, а
преподаватели по диамату долдонят по старым шаблонам.
Д.: Они растеряны,
их по-другому готовили в универе. А может, боятся?
В.: Конечно, боятся,
напуганы прошлым, зажаты. Есть старая учебная программа, вот и гонят по ней. А
если речь идет о ХХ съезде, тоже не выходят за рамки принятых решений. Но не все
такие! У нас отлично ведет семинары молодая преподавательница. Главное ее
требование, наставление: будь критичным ко всему, не будьте марионетками,
которых дергают за ниточки хитроумные кукловоды-догматики, но и не
горлопананами-критиканами, а вдумчивыми гражданами, ищите правду.
Р.:
Наверное, для этого мы и решили собираться — искать правду, может быть, кружком
называться слишком скромно, думаю, мы создаем сегодня нечто более сильное и
перспективное. Но если даже кружок, давайте дадим ему название. Смотрите,
интересно получается, я записала всех пришедших — Петя, Владимир, далее я —
Маргарита, вернее, здесь запишем — Рита, далее Дима, Артур и Андрей… Если взять
первую букву от имени каждого, потасовать их — что получится?… Угадываете?
ПРАВДА! Вот и назовем наше “тайное общество” партией Правды.
А.Н.: Мне
кажется подходящим название “Правда”. Но есть газета “Правда”, хотелось бы
чего-нибудь посвежее, поточнее. Может быть, “Новая правда”, или допустим,
“Народная правда”?
А.: Я тоже дома покумекал, мой вариант — “Наша
правда”.
…Уже на третьем занятии кружка, когда поспорили по проблеме
“Конституция СССР как гарант гражданских свобод. Текст и реальность”, не
захотели расходиться, перебрались в комнату Немелкова и, в целях конспирации не
ведя никаких записей, попытались тезисно сформулировать принципы устройства
обновленного социалистического государства.
— Мы должны не только изучить
теорию классиков научного коммунизма, — выступал Артур, — но проанализировать
реальный социализм, тот, что получился в нашей стране. То ли мы
построили?
— Эка, куда замахнулся! А не прихватят ли нас за откровенную
антисоветчину? — насторожился Андрей.
— Какая же это антисоветчина? Мы,
уверен, все — за социализм, только за такой, в котором главным принципом должна
стать справедливость.
— Верно! — подхватила Рита. — Свобода, равенство,
братство — слишком расплывчатые лозунги. А справедливость вбирает все. Со словом
“справедливость” сочетаются как однокоренные “право”, “правильно”,
“направление”, “правда” — то есть как раз совпадает с названием нашего
кружка!
— Итак, попробуем сформулировать хотя бы в первом приближении,
чего мы хотим добиться. Во-первых, думаю, стоит перенести партийный принцип
демократического централизма на само государственное устройство. То, что
полезно, требуется, запрашивается всем народом или большинством, должно
непременно осуществляться центральными органами власти. И наоборот, если народ
поручил властным структурам руководить справедливым обществом, само общество
обязано исполнять законы и постановления власти.
— Но кто будет во главе
власти — вот в чем проблема. Могут оказаться непрофессионалы, проходимцы,
карьеристы, диктаторы…
— А здесь необходимо совершенствовать
избирательную систему. Не то что теперь — вот тебе кандидат, голосуй — не
голосуй…
— Во главе государства и ниже — по вертикали — должны оказаться
умные люди, философы, Совет мудрейших, своеобразное Вече, которому народ вверяет
свою судьбу.
— Далее специальным директивным указом Вече устанавливает
неукоснительное выполнение положений Конституции, которую, кстати, можно было бы
назвать не этим иностранным словом, а просто “Основной закон”.
— А может,
по древнерусской традиции — “Русская правда”?
— Красиво, однако другие
народы обидятся.
— Итак, этот указ не только вновь обозначит права
граждан, но подтвердит гарантию выполнения этих прав.
— Причем к правам
на труд, на отдых, на образование, на свободу слова, собраний и выступлений
стоит добавить свободу на получение информации. Почему работают глушилки, и мы
не можем слушать заграничные передачи, даже музыкальные? Если разные голоса
говорят неправду, сами разберемся.
На следующем заседании “Нашей правды”
планировали обсудить реферат студента мехфака Жени Горонкова, который, услышав о
немелковском кружке, сам напросился на дискуссию “Социализм. Идея и
реальность”.
Желающих заниматься, спорить, говорить по душам в кружке
“Наша правда” прибавлялось. Кто-то приходил, кто-то уходил. Главное, что смущало
и тревожило Немелкова: кружковцы явно были скованы, большинство чего-то
недоговаривало. На одном из занятий появился некто Вано Андреян, шустрый малый с
большими оттопыренными ушами и острым носиком, чем напоминал мышонка. На первом
же заседании кружка Вано пустился в жаркий спор по вопросу автономизации: могут
ли союзные и автономные республики СССР добровольно выходить из состава Союза.
Причем Вано отстаивал позицию жесткого закрепления республик в составе страны,
невозможности их отделения в силу экономических, а главное — политических
условий, ибо в случае выхода их тут же поглотят акулы
капитализма.
Ораторствовал Ваня эмоционально, жестикулируя правой рукой
над курчавой своей головой, чем-то напоминая доцента кафедры марксизма-ленинизма
Каро Мкртичевича Мкртчана. Вот, думал Немелков, появился хороший спорщик. Если
даже мысли его путаны, такие нужны для поддержания дискуссии, для откровенного
разговора, для нахождения “нашей правды”.
Однако уже на следующий день,
увидев Андреяна в коридоре, Артур заметил, как Вано-Ванечка хотел прошмыгнуть
мимо, даже не поздоровавшись.
— Вано,— остановил нового кружковца
Немелков, — куда так спешишь? Обязательно приходи в следующую среду, интересный
вопрос поднимаем — о роли комсомола в новых общественных условиях.
— Нэт,
не прыйду, дарагой! Курсовая работа на носу. И потом… Потом, Артур, я,
понымаишь, подумаль-подумаль и решиль для сэбя — ни лэзь куда ни нада. Мой
дедушка-революцонэр сломал себе шею на политике. Мне диплом нада, домой нада,
родители ждуть, а в твоей партии…
— Постой-постой, какая же это партия, у
нас — кружок для общего развития.
— Э-э-э, дарагой, мина нэ обманишь. Я
тебе скажу, Артур, если тебя и твоих ребят заметут, знай, что Вано — не
доносчик. Но больше я не участник ваших сборищ. Так?
Во время большого
перерыва студент Немелков и студент Новиков пошли пообедать.
— Артур, я
еще на прошлой неделе хотел поговорить с тобой. С нашим дискуссионным клубом
надо что-то делать…
— Во-во, я тоже так думаю. Все это одна говорильня,
выпускание паров. Печатного органа у нас нет. Можно, конечно, подумать о
рукописном журнале, выпускать, допустим, десять экземпляров на пишущей машинке.
Так делают ребята в универе, слышал?
— А что они делают?
—
Филологи выпускают журнал “В поисках”. Мне обещали принести экземпляр.
—
И что, неужели партком разрешает? А как же цензура? У нас ни одна факультетская
“Колючка”, ни один номер “БОКСа” без проверки не обходятся!
— Да… Но
надо, надо продумать более активные действия. Выходить из аудитории-кельи в
народ, расширять наши взгляды по обновлению.
А так — одна говорильня,
какой-то политический онанизм получается.
— О, да ты заговорил прямо-таки
афоризмами!
— Не я придумал. Один умный человек до меня высказался по
поводу подобных кухонных забастовок и заговоров русской интеллигенции. В общем,
давай вместе думать, как активизировать “Нашу правду”.
— Постой, Артур,
не горячись! Хотел тебе, старик, сказать как раз о другом. О сворачивании нашей
деятельности. Причем немедленно. Не-мед-лен-но!
— Как? О каком
сворачивании ты говоришь, мы не успели начать и… Неужели ты, Леня, испугался,
как Ванечка-Вано?
— Испугался, не испугался… Ты послушай, только не
горячись и не перебивай. Наш кружок открыт для всех, тайн из его работы мы не
делаем, так? Значит, согласись, я мог посоветоваться с умным человеком о наших
делах? Мог. Я никого по именам не называл и о тебе ничего не сказал…
—
Тебя вызывали?
— Никуда меня не вызывали. Я говорил с отцом. По своей
воле. Ты знаешь, отец человек опытный, руководил не одной крупной стройкой.
Когда я рассказал ему о наших спорах, он ужаснулся: ребята, вы с ума сошли! Да
как вас еще не прихлопнули? Немедленно прекращайте! Вы думаете, со сталинским
прошлым покончено? Не пройдет и месяца, как ваше политическое сектантство будет
раскрыто. А ты (это он мне) как комсорг должен уберечь ребят от о-о-очень
больших неприятностей. Вот так, Артурчик. Ты не обижайся, старик, и не дуйся.
Пойми, ты повел за собой других студентов. И это хорошо. Мы не должны быть
послушными, безмозглыми баранами, и комсомол должен проявлять себя, а не делать
все по указке сверху. Но мы зашли в наших темах до таких острых вопросов, что,
случись недоброе, вылетят из института вместе с нами еще десятка два
однокурсников, не только кружковцев. Даже те, кто был в курсе наших споров и
вовремя не донес куда надо.
— Это тоже тебе отец сказал? М-да, может, он
и прав. Вылетят ни за что. А главное, — о чем я тебе говорил, — кружок нужен был
как начало. Дальше собираться, чтобы толочь в ступе воду, мне кажется
бессмысленным. Надо бросить догматикам открытый вызов, призвать студентов и
комсомольцев к обновлению. Начнут комсомольцы УПИ, присоединится вся
страна.
— Артур, не торопись. Где, когда ты задумал выступить? Один или
вместе с кружковцами?
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АРТУРА НЕМЕЛКОВА. С этого момента я
начал готовиться. Предстояла отчетно-перевыборная комсомольская конференция УПИ.
И я решил выступить там от своего имени. Не втягивая кого-либо из своих
единомышленников, дабы не навлечь на них начальственный гнев. Я чувствовал, что
оттепель кончается, почти не начавшись, и наступают первые заморозки (вспомним
кампанию против Б. Пастернака или В. Дудинцева. — В.Б.). Нужно было спешить,
пока не грянули настоящие морозы. За пару дней до конференции основные тезисы
выступления были написаны и даны для ознакомления самым близким товарищам из
нашей группы. Ребята прочли и вынесли вердикт:
— Здорово!
—
Смело!
— Правильно!
— А кто выступит?..
Где, где теперь, по
прошествии более чем полувека найти речь Артура Немелкова? Как восстановить
СЛОВО ПРАВДЫ, открыто и мятежно прозвучавшее под сводами актового зала УПИ
осенью 1956 года? В госархиве сохранилась стенограмма выступлений делегатов
конференции, всех, или почти всех. И нет среди них одного-единственного
документа — текста выступления самого “виновника торжества”. Как же
так?…
Но, слава Богу, живы свидетели, здравствует и Артур Авенирович.
Надеясь на память неблизких юных лет, попробуем воссоздать и само слово, и
звездный час Артура.
Часть вторая
“Как будто в буре есть
покой…”
КОНФЕРЕНЦИЯ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
— Товарищи, — голос его дрогнул,
и сухой хриплый звук прошел от микрофона в динамики, в зал, в скучающую душную
гущу делегатов.
Он решительно откашлялся в кулак и произнес уже уверенно,
без колебаний:
— Товарищи делегаты, делегаты от комсомольских организаций
факультетов, приглашенные с совещательным голосом, товарищи гости, представители
иностранных студентов, уважаемые партийные и беспартийные преподаватели,
присутствующие в зале, обращаюсь ко всем вам…
Сидящие в первых рядах
взглянули на оратора и ухмыльнулись в ответ на столь торжественное
обращение.
А те, что подальше, продолжали переговариваться, шептаться,
кто-то развернул шуршащие листы газеты “За индустриальные кадры”. Два предыдущих
стандартных выступления показали — все пойдет по накатанной дорожке: официальный
отчет, прения, голосование, новый состав комитета, выборы делегатов на районную
и городскую конференции и т.д., и т.п.
Артур с высокой трибуны видел
состояние зала и понял — для начала делегатов надо “разбудить”.
—
Участники конференции! Я знаю, что некоторым из вас, кто привык отстаивать
официальную точку зрения, придутся не по душе те мысли, которые после долгих
размышлений я решаюсь сегодня изложить. Но как ответственный за
политико-воспитательную работу на физтехе и просто как патриот и советский
человек считаю, что не имею права дальше отмалчиваться и жить по накатанной
дорожке. Мы долго и безропотно молчали. Мы жили и продолжаем жить в страхе,
боясь открыто высказать свое мнение по тем или иным важным вопросам нашей жизни.
Сейчас, когда двадцатый съезд партии призвал к восстановлению справедливых
принципов общественной жизни и открыл дорогу для критики недостатков, самое
подходящее время поговорить об этом. Как вы думаете? Наверное, согласитесь: о
многом настала пора поговорить!
Артур сделал паузу.
Гул в зале
смолк.
Студенты перестали трепаться на посторонние темы, шуршать
конспектами (успевали готовиться к коллоквиуму), читать книжки, для приличия
упрятанные на коленях.
Необычная тишина, напряженное внимание заставили и
президиум очнуться. А председательствующий Леонид Бармин даже привстал, но тут
же вновь брякнулся на пискнувший стул.
— …Поскольку мы на комсомольской
конференции, начнем с положения в комсомоле, и в нашем, упийском, и в целом — в
ВЛКСМ. Не будем далеко ходить. Вот вы сидите в этом зале. Чем каждый из вас
занят? Интересен ли вам отчетный доклад? Все ли в нем правильно, все ли проблемы
жизни современной молодежи отражены? Что вы вынесете из этого зала, кроме
бесконечного зевания, болтовни с соседом, если тот еще не уснул? Там, слева, в
восьмом ряду, разбудите спящего! Доброе утро, товарищ!
В зале и в
президиуме раздались смешки.
— Я спрашиваю: почему вы молчите, разве
каждому из вас не о чем сказать? Боитесь?
Председательствующий постучал
карандашом по стакану:
— Товарищ…э-э-э, Немелков, что вы хотите этим
сказать? Разве мы не предоставили вам слово, как только вы записались в прения?
Кто чего боится?
— Спасибо, что предоставили. Честно признаться, не
ожидал: я думал, у вас, как всегда, все расписано заранее. Итак…
И тут
произошел сбой мысли. Вернее, ему ясно показалось, как сбоку возник Волька
Бородин и довольно громко (не услышали бы в зале, ведь микрофон включен!)
произнес: “Остановись, дружище-дурище, слово не воробей, вылетишь…” Но тут же он
различил другой, хрипловатый (Николаич, ты?), голос: “Главное в жизни — успеть,
не скажешь сегодня, будешь мучиться всю жизнь. Смелее, Артур!”
— Итак,
товарищи, призываю вас всех проснуться и протереть глаза. Давайте честно
признаемся: комсомол сегодня — это послушная серая масса, которую трудно
расшевелить. Чем это можно объяснить? А тем, что все заорганизовано, списки
нового состава комитета давно утверждены парткомом и райкомом, решения и
постановления написаны… Членам президиума абсолютно наплевать на ваше мнение. И
главное, вы ничего не можете изменить! От вас ничего не зависит. Вы
присутствуете в качестве статистов и винтиков.
Думаю, что такое положение
не только в нашем институте, но во всех без исключения. Мне довелось наблюдать
подобное и в московском вузе.
Комсомол перестал быть организацией
политической, то есть активно преобразующей общество, а не только выполняющей
приказы сверху.
Настоящий комсомолец — общественник в высоком понимании
этого слова, тот, кто готов пожертвовать всем, может быть, и жизнью ради высокой
идеи…
Вы только вдумайтесь: в комсомол принимают с четырнадцати лет,
пройдет немного времени, и начнут принимать с двенадцати. Только ради отчетности
и количества. Разве это серьезно? Я предлагаю пересмотреть Устав ВЛКСМ, изменить
возраст приема с 14 на 16 лет.
Сидящие в президиуме, будто деревья под
ветром, начали наклоняться вправо-влево, шептаться друг с другом. О чем-то
запереговаривались, поглядывая то на говорящего, то на часы. Того и гляди,
объявят о регламенте и не дадут сказать главного.
Зал — весь
внимание.
— Но пойдем дальше… Апатия охватила не только комсомольские
организации. Активность масс низка, заглушается чрезмерной централизацией и
несоблюдением демократических норм. Вы думаете, что проведение выборов в местные
и центральные органы, в том числе в Верховный Совет, кого-то могут вдохновить?
Как можно выбирать, если в списке для голосования — один кандидат? Как можно
ВЫБИРАТЬ из одного? Это же насмешка над нами, винтиками-избирателями!
А
организация демонстраций и митингов, на которые гонят буквально из-под палки,
при помощи всяческого запугивания, принуждения, угроз лишения стипендии… Это вас
тоже приводит в восторг?
Да, еще о выборах, вернее, о тех, кого мы
выбрали нами руководить. Местные партийные и советские работники похожи на
говорящих попугайчиков. Что провещает большой попугай сверху, то они и щебечут.
Они…
Часть зала возликовала:
— Правильно говоришь!
И —
первый всплеск аплодисментов в поддержку оратора.
Но только хлопки
смолкли, из середины зала раздался по-бабьи визгливый крик:
— Долой
антисоветчика с трибуны!
“Вот оно, началось”, — подумал Немелков, хотел
было продолжать, но в президиуме уже вняли бдительному визгу из зала,
опомнились. Поняли: самим давно надо было остановить зарвавшегося студента,
которого понесло явно “не в ту степь”. Председательствующий Леонид Бармин
обратил гневный взгляд в сторону выступающего и твердо заявил:
— Товарищ
Немелков, конференция лишает вас слова!
Артур спокойно взял стоявший на
краю трибуны стакан и, отпив пару глотков, обратился к залу:
— Товарищи
делегаты, прошу дать мне возможность высказаться до конца в пределах принятого
регламента.
В зале дружно закричали:
— Дать, дать! Пусть говорит!
Ставьте на голосование!
И Бармин, чувствуя настроение зала, не решившись
идти против большинства, поставил вопрос на голосование. А когда увидел лес рук,
поднятых за продолжение выступления, вынужден был без подсчета голосов
сдаться:
— Хорошо, продолжайте, но только в пределах отведенного вам
времени. И прошу сосредоточиться на конкретных делах за отчетный период, а не
заниматься незрелым философствованием.
Немелков продолжил.
— Они,
советские и партийные органы, способны только повторять то, что скажут сверху.
Боятся высказать свое мнение, а у многих его просто нет. Ведь такая
безынициативность — настоящий тормоз для общества. И этот тормоз во многом
исходит оттуда, сверху. Кто там продолжает заседать, указывая нам светлый путь?
Это те подхалимы, которые сами и создавали культ личности вождя, а теперь все
сваливают на него.
Бармин снова требовательно стучал по графину, угрожая
выключить микрофон.
— Теперь о Конституции. Она у нас прекрасная. Но
существует, к сожалению, только на бумаге. Казалось бы, все демократические
свободы провозглашены, но попробуйте ими воспользоваться… Свобода
слова…
Скажите, вы можете спокойно послушать иностранные радиостанции?
Специальные генераторы, глушилки работают с такой силой, что ни одного слова не
разобрать.
Скажите, вы можете выступить с критикой правительства и
партии? А они, их деятельность ох как нуждаются в критическом анализе. И это
показал съезд партии, решившийся откровенно сказать об ошибках и преступлениях
сталинского периода. Без критики, этой обратной связи в нашей непростой
общественной системе, руководители оторвались от народа, перестали чувствовать
пульс живой жизни, погрязли в бюрократизме и формализме, не желают ничего
слышать и что-либо менять.
На ХХ съезде дана резкая критика деятельности
Сталина. А кто был рядом со Сталиным? Подхалимы, которые поощряли травлю и даже
уничтожение тысяч честных людей. Они вместе со Сталиным — виновники массовых
репрессий. Они же допустили грубейшие ошибки в период подготовки к войне. И что
мы видим? Они по-прежнему сидят в президиуме съезда, входят в состав руководящих
органов, вновь, как и в сталинские годы, единодушно голосуют ЗА. Так когда же
они действительно были ЗА — в тридцать седьмом или в пятьдесят
шестом?
Сидевшие в президиуме были ошарашены! Полное смятение!..
—
Вы слышите, что он говорит?
— Да как он смеет?
— Товарищ Стоканов,
какие будут указания? Может быть, выключить микрофон?
Выключить микрофон,
лишить слова, объявить перерыв? Но ведь он, хитрец, ссылается на недавно
закончившийся съезд КПСС, где сам генсек дал пример критики основных сторон
недавнего прошлого. Прогони этого студентишку с трибуны, а там, глядишь, и самим
дадут по шее за зажим критики.
Именно в этот решающий момент секретарь
горкома КПСС допустил промах, который позднее, несмотря на выкрутасы, старания и
суету, скажется на его партийной карьере, более того — на
судьбе.
Растерянность упийских парткомычей и самого секретаря позволила
сказать Немелкову то, что в другой раз, возможно, и не представилось
бы.
Сидящие в президиуме по-птичьи вертели головами. Перешептывались. Что
делать, как поступить? Вы слышите: одурел, загибает, куда его понесло! А еще
называется молодежным идеологом самого важного факультета. Да, подготовился
основательно! И теперь придется вытерпеть до конца… А там — разберемся! Страшнее
будет, если сейчас запретим и взбунтуется зал, делегаты конференции. Тогда будут
рассматривать в райкоме и в обкоме партии не просто как единичное выступление. А
как антисоветский мятеж участников конференции, то есть всего Уральского
политехнического института... Ох, беда-беда, ох, беда! Если информация дойдет до
Центра… И кто только надоумил председательствующего выпустить на трибуну
незапланированного, несогласованного оратора? Доигрались в
демократию!
Между тем оратор продолжал красивым по тембру и решительным
по напору голосом:
— Свобода печати… Вы можете напечатать хоть что-нибудь
без цензуры? Из вашей критической статьи, из простенького рассказа, из
самодеятельной песни вырвут, изымут, перечеркнут все, что не нравится или
покажется подозрительным партийному чинуше, а могут и исказить смысл буквально
до наоборот, и вы сами не захотите печататься. У меня есть масса примеров даже с
родной газетой “ЗИК” и со стенной печатью, но двинемся дальше.
О свободе
уличных шествий. Да, об этом я уже говорил, и все знают, какова здесь свобода.
Скажите, хоть один из вас присутствовал на собрании или митинге, которые
проводились бы без разрешения властей, без присутствия “людей в штатском” из
компетентных органов?
Конечно, с ХХ съезда прошло мало времени, и
последствия культа личности сразу не искоренишь. Невозможно враз избавиться от
сковывающего страха перед возможным наказанием. Не забудем, как расплачивались
люди за любое не к месту или необдуманно сказанное слово.
Товарищи, наша
страна должна стать примером для всех стран в соблюдении демократических свобод.
Ведь советский строй утвердился, реставрация капитализма невозможна. Людям
обязательно надо избавиться от страха перед государственной машиной. Нужно
наконец-то понять: государство — это мы! Критическое выступление, если оно
объективно и конструктивно, должно рассматриваться как положительный момент и не
восприниматься как враждебный выпад. Только в этом случае возродится энтузиазм и
активность народных масс.
— Товарищ Немелков, у вас, надеюсь, все?
Зашкаливаете за регламент! — Бармин постучал по часам на запястье.
—
Пусть говорит!
— Не зажимайте рот!
— Правильно!
—
Позор!
— Немелков, мы с тобой!
Артур взял стакан, сделал два
больших глотка и глубоко вздохнул. Теперь могут и прерывать.
Главное было
сказано.
Однако микрофон был включен, и, не взглянув на президиум,
Немелков продолжил:
— Теперь от политического аспекта перейдем к
хозяйственному. Если верить нашей статистике и газетным ура-отчетам, у нас в
стране все идет на пять с плюсом. Но посмотрите, какой беспорядок и
расточительность царят на многих строительных объектах. Сегодня разрывают улицу,
укладывают трубопровод, засыпают траншею, закатывают асфальтом. Смотришь, через
пару недель вновь разрывают, протягивают неучтенный кем-то кабель и вновь
асфальтируют. Все? Нет! Через месяц обнаруживается, что в траншею уложили
трубопровод не того диаметра и его необходимо заменить по проектному расчету.
Мне могут приписать очернительство, дескать, сгущаю краски. Но прислушаемся к
народу. Уже в ДК Уралмаша самодеятельный хор поет частушку:
Под окном
канаву люди
Перерыли в пятый раз.
Никогда, друзья, не будет
Безработицы
у нас!
И что вы думаете? Частушку петь запретили! Теперь выискивают
автора “крамольного” текста!
И вся эта бесхозяйственность совершается,
заметьте, при нашей так называемой плановой системе! Получается, что правая рука
не знает, что делает левая. Мягко говоря, странное отношение к своим
обязанностям у руководителей среднего звена. Но все это делается на виду и у
большого начальства…
А сколько несуразностей встречается в сфере
планирования промышленного производства? Выпускается масса товаров ненужных,
некачественных. Никто не знает, сколько необходимо произвести определенного
товара. Им забивают склады, а потом — на вторсырье. Товарищи экономисты,
кто-нибудь из вас прикидывал убытки? В то же время зачастую не хватает самого
необходимого из качественной одежды, обуви, мебели, книг.
Каждую осень
армия студентов и рабочих едет на уборку урожая. А что потом? Добрая половина
урожая погибает после первых заморозков. Так и стоят мешки с картошкой по
обочинам полей. А то что поступает на плохо подготовленные овощехранилища, гниет
и выбрасывается.
Я ничего не преувеличиваю. Наш факультет недавно был
привлечен для перебирания гниющей моркови и картошки. Недаром в народе
овощехранилища называют овощегноилища. И так из года в год. Те же посевы —
выполняй план, потом — аврал на спасении урожая! А отношение к убранному?
Гробится колоссальное количество семенного фонда, растрачивается впустую на
холоде и в грязи человеческий труд, расходуются техника и горюче-смазочные
материалы. Обидно, обидно за нас, за страну, за сельских тружеников. И мы все
это видим, ВСЕ! И — молчим!
Можно было бы остановиться и на вопиющих
случаях хищений. Возьмите торговлю. Эти разжиревшие тетки за прилавком то и дело
обвешивают. Обсчитывают нас, лопухов. Директора магазинов и складов — тоже
рыльце в пушку. Видимо, есть поддержка в верхах?
Опять же не надо далеко
ходить за примерами. Совсем недавно профсоюзные ревизоры обнаружили большую
недостачу и списанные, якобы испорченные, продукты в нашей столовой. И опять —
молчок. Ну, разве что нарисуют карикатуру в “БОКСе”.
Все-все, я
заканчиваю. Хочу только подчеркнуть, что во всех сферах жизни должна возрасти
роль комсомола. Мы, комсомольцы, хотим принимать участие во всех добрых и нужных
делах. Мы не хотим быть сторонними наблюдателями и присутствовать при всех
творимых безобразиях, делая вид, что ничего страшного не происходит.
Это
касается политических дел, гарантий свобод и прав, обозначенных Конституцией,
это касается и нашей повседневной хозяйственно-экономической сферы…
Артур
улыбнулся, снял очки, взмахнул ими над головой, как дирижер:
— Да что
говорить… Ребята, ведь жизнь-то прекрасна! Но почему у нас она такая серая? И
останется такой до тех пор, пока мы не возьмемся всерьез за исправление всех
недостатков, порожденных прошлыми, и не только прошлыми, ошибками. Кто, если не
мы?!
Немелков неторопливо собрал листки с тезисами, спустился со сцены и
прошел на свое место в седьмом ряду, где разместилась делегация родного
факультета. Соседи и сидящие спереди, оглядываясь, пожимали ему руку. Зал шумел,
бурлил, говорил, рокотал, большая часть делегатов продолжала
аплодировать.
Значит — дошло, значит — проняло, значит —
началось?..
За шумом овации Артур едва расслышал голос подошедшего Толи
Мехренцева:
— Немелков, передай текст выступления в редакционный совет
конференции, так полагается.
— Пожалуйста, — Артур протянул секретарю
комитета свернутые в трубочку листы с тезисами выступления.
Шквал
рукоплесканий продолжался. Десять секунд… Двадцать… Президиум был в явном
смятении и растерянности. Дать отпор дерзкому бунтарю? Пойти против
разбушевавшейся публики?… Тридцать секунд… Сорок… Минута!
И вдруг овация
как-то разом свернулась, умолкла. Сменилась предгрозовой тишиной. Чувствовалось,
— делегаты напряглись в жадном ожидании: что будет, чья делегация решится, кто
поднимется на трибуну, будут ли у физтеховца последователи?
И тут
началось!
ВСПОМИНАЕТ ЕВГЕНИЙ ПАНФИЛОВ. В описываемые годы, как и его брат
Глеб (ныне известный кинорежиссер),— студент химфака, впоследствии — главный
редактор “Вечернего Свердловска”, затем — доцент Юридического института. “Мы
сидели с товарищем на балконе, резались в “морской бой”. Чего там, думаем,
нового скажут? Мы и на конференцию-то не хотели идти, но раз уж выбрали
делегатами и будет регистрация, выдача мандатов и прочее, пришлось идти… Сидим,
играем. Слышим, внизу дружно аплодируют… Какие-то выкрики… Ухватились за
балконный барьер, как два орла, взираем вниз.
Видим, на трибуне какой-то
очкарик. И — режет правду-матку!
Зал неистовствует, бушует, как океан.
Очкарик закончил, мотнул шевелюрой, идет на свое место. А по проходу, по
межрядью, мчится на кавалерийских ножках — кто бы вы думали? — Торопень, Толя
Торопень, известный активист с металлургического. В гимнастерке, ножки кривые,
на крыльях галифе взлетая на сцену, вопит: “Позор антисоветчику!”
Потом,
после УПИ, этот Торопень выбился в завотделом науки в обкоме
партии…
Первым на трибуну взлетел тот, в гимнастерке, ноги ухватиком,
тот, кто первым завизжал бабьим голосом из задних рядов: “Долой антисоветчика с
трибуны!”
— Товарищи! — срывающимся голосом кинул в зал Торопень, тут же
взял себя в руки и уже спокойнее повторил: — Товарищи, вы все слышали, когда я
из задних рядов потребовал лишить слова делегата-физтеховца. Признаться,
удивлен, почему председательствующий самым решительным образом не прекратил речь
этого, этого… Считаю своим долгом разъяснить свою позицию.
Я считаю
выступление товарища Немелкова антисоветским, антикомсомольским и вредным! Я не
могу влезть в голову Немелкова и не знаю, какие подлые и грязные мысли копошатся
в его мозгах. Но мне просто не верится, я не могу себе представить, как может
молодой человек, воспитанный советской властью, пользующийся всеми благами
советской власти, вот так, запросто выйти на трибуну и совершенно сознательно
начать обливать грязью и советский строй, и комсомол.
Хочу обратить
внимание комитета ВЛКСМ, парткома института, присутствующего на нашей
конференции представителя горкома партии, что выступивший с антисоветскими
тезисами Немелков — не рядовой комсомолец. Он — секретарь по
идейно-воспитательной работе физтеховского бюро ВЛКСМ, лучшего факультета УПИ.
Но если коллектив делегирует на общеинститутский форум подобного делегата, то
стоит подумать, чем живут, как мыслят остальные студенты и преподаватели
факультета! Резонно?
Немелков говорит, что комсомол сейчас — это серая,
инертная масса, которую трудно расшевелить… Товарищ Немелков, если вы вышли на
трибуну и бросаете такой упрек, так, будьте любезны, приведите факты! Может, вы
думаете, что и в годы Великой Отечественной войны кто-нибудь толкал наших
комсомольцев в бой?! Я находился некоторое время на оккупированной
территории…
Торопень на мгновение запнулся, подумал, а правильно ли он
поступает, что вновь напоминает о жизни в городке, занятом фашистами. И тут же
сам себе ответил: правильно, там, где положено знать, — знают, не раз вызывали
для длительных бесед, похожих на допросы с подпиской о неразглашении... А
упомянуть еще раз стоит, чтобы до конца поверили в его искренность, в его
верность партии Ленина — Сталина. Да-да, он и сегодня, после ХХ съезда, считает
товарища Сталина наследником Ленина, светочем коммунизма.
— …на
оккупированной территории и видел лютую ненависть к врагу. А вы поносите этот
народ, вы клевещете на нашу молодежь! Какое вы имеете право клеветать на
советский народ?..
И тут в зале вначале тихо, а затем все громче раздался
топот: делегаты конференции, большинство упийских комсомольцев, не хотели
слушать злобного выступления Торопеня и выражали свой протест не криками, не
освистыванием, не громогласным захлопыванием, а скрытым, невидимым для стукачей
способом, притопывая каблуками по дубовому паркету. Казалось, дружный строй
комсомолии единым маршем двинулся к сцене, на президиум, на трибуну, сметая на
своем пути все косное…
Однако, пользуясь микрофоном, перекрикивая
нарастающий гул, Торопень продолжал:
— Этот, с позволения сказать, оратор
заявляет, что правительство оторвано от народа, что наш государственный аппарат
погряз в бюрократизме. Используя критику культа личности, Немелков переносит ее
на все правительство. Скажите, Немелков, вы что, действительно считаете, что
товарищи Молотов, Микоян, Маленков, Каганович и другие руководители партии и
правительства, соратники Ленина и… повторюсь, соратники Ленина, — что, они
оторваны от народа? Разве это не клевета? Это же настоящая
антисоветчина!
Немелков утверждает, что комсомол перестал быть
политической организацией, и предлагает обратиться в ЦК ВЛКСМ с просьбой
пересмотреть Устав. Что же вам, Немелков, не нравится в Уставе комсомола? Может
быть, то, что он работает под руководством партии? Так или не так?
Я
согласен лишь с единственным положением выступления Немелкова, что у нас в
стране хорошая Конституция.
Но ведь он заявляет, что она якобы не
выполняется.
Он требует каких-то свобод!
Но есть разная свобода.
Есть свобода, которая приносит пользу народу, и есть некая свобода в
немелковском понимании. Мы против такой свободы, и антипартийные выступления в
нашей стране НИКОГДА не будут позволены!
Немелков, ваш писк с этой
трибуны в хоре наших врагов не остановит наш народ на правильном и справедливом
пути!
Довольный собой, Торопень легко сбежал с трибуны в
недоброжелательно, по-осиному гудящий зал. Лишь в первых рядах и в последнем
раздались жидкие шлепки.
Торопень уже собирался занять свое место среди
делегатов металлургического факультета, но задержался и вдогонку своему
выступлению выкрикнул:
— Немелкова — вон из рядов комсомола!
Тут
же, как из катапульты, выскочили трое, четверо, нет, пятеро студентов и, сжав
кулаки, бросились в сторону Торопеня. Однако рослые дружные металлурги поднялись
и стеной загородили факультетского активиста. А так бы побили
Торопеня.
Любопытно, что первыми с обличительными вступлениями на трибуну
полезли не делегаты конференции, а приглашенные, имевшие лишь право
совещательного голоса. В президиуме видели это, но своим, проверенным, стойким
давали зеленую улицу. И вот уже следующий приглашенный, Гений Саранцев, сипит
торопливым, простуженным голосом:
— Меня возмутило выступление Немелкова.
Немелков — член комсомольской организации физтеха, и по реакции зала, которая
особенно заметна в левой зоне, где сидит делегация физтеховцев, чувствуется, что
подобные мысли не у него одного. Я предлагаю сделать соответствующие выводы о
поведении и мировоззрении Немелкова и его компании и больше не останавливаться
на этом выступлении, а перейти к текущим делам.
Кстати,
нетребовательность к воспитательной работе, к поведению комсомольцев со стороны
курсовых бюро и даже членов комитета Бармина и Вольхина приводит к подобным
недоработкам в политическом воспитании. Комитет стал какой-то добренькой няней.
А секретарь комитета, руководитель упийской комсомолии Анатолий Мехренцев, тот,
по-моему, просто зазнался и никак не реагирует на критику, которая не раз
раздавалась в его адрес…
Саранцев зашелся кашлем, нашарил в кармане
носовой платок, замахал руками, просипел, дескать, в основном все высказал, и
спустился в зал.
А по забежным ступеням, возле которых выстроилась
очередь желающих выступить, уже устремлялся на сцену следующий, очкарик с
бледным лицом. В президиуме засуетились, заперешептывались: какая-то
неуправляемая конференция получается!
Пока все шло как по-писаному — с
резким осуждением дерзкого слова физтеховца. А вдруг этот неизвестный очкастый
повернет по-немелковски?..
— Товарищ, представьтесь, — предложил Бармин.
— Вы являетесь делегатом конференции?
Студент только взмахнул над головой
алым мандатом и выпалил испуганной скороговоркой, захлебываясь, словно боясь,
что ему не дадут договорить:
— Я — в пределах регламента… Я полностью,
да-да, полностью поддерживаю выступление товарища Торопеня! Особенно меня
оскорбляет в выступлении Немелкова то, что будто бы кандидатуры будущих членов
комитета ВЛКСМ заранее известны, что они прошли не одну анкетную “обкатку” в
вышестоящих партийных инстанциях. Этого не может быть! Мы достаточно
самостоятельны и грамотны, чтобы выбирать в комитет действительно достойных. Не
лгите, товарищ Немелков!
В зале раздался дружный хохот и даже выкрики:
“Позор!”, “Ты откуда свалился, парень?”.
— Наш человек! — буркнул Бармин,
наклонившись к секретарю горкома Стоканову. — Еще один удар по Немелкову.
Уверен, он получит должный отпор!
Однако горкомовец был не столь
оптимистичен:
— Вы уверены? Ох и каша у вас заварилась, Леонид, чувствую,
долго нам придется ее расхлебывать. Вы уж поверьте моему опыту. Такого на Урале
еще не бывало! Да что на Урале… В общем, так: учитывая ершистость зала, стоит
немедленно объявить перерыв, подготовить двух-трех авторитетных выступающих и
таким образом дать окончательный бой оппортунисту. Далее перейти к спокойным
прениям по отчетному докладу и к выборам нового состава комитета. А с Немелковым
и с состоянием идеологической работы на физтехе — разобраться после окончания
конференции. Действуй, Бармин!
Однако ожиданиям руководителей конференции
успокоить бурю было не суждено сбыться. За “девятым валом”, за волной
недовольства и протеста, поднятой Артуром Немелковым, громоздились новые
штормовые, грозные и непокорные валы.
Обычно на прежних конференциях
после перерыва количество присутствующих наглядно убывало и приходилось собирать
по аудиториям, столовой, библиотеке, чтобы обеспечить кворум для голосования.
Сегодня же, едва после перерыва прозвучал звонок, в зале оказались заполненными
все ряды и откидные сиденья, да еще и в боковых проходах разместилась масса
желающих. Что делать? Не выгонять же их из зала. Предложить посторонним, не
делегатам, покинуть конференцию? Тут же прослывешь зажимщиком критики и свободы
слова. Тем самым подыграешь этому Немелкову. А ведь среди приглашенных —
студенты-иностранцы, чехи, венгры, поляки.
Артур занял свое место. При
этом заметил — слева и справа от него исчезли соседи. Сбежали с конференции,
пошли пивком побаловаться? Или испугались сидеть рядом с “антисоветчиком”, как
его уже обозначил первым тот ухват в гимнастерке? Оглянулся по сторонам…
Приветственные взмахи рук из дальних рядов, ободряющие улыбки оглядывающихся с
четвертого ряда: “Артур, не дрейфь, мы с тобой!” И даже — еще до начала
дискуссии — аплодисменты со стороны иностранных делегатов. Демократы дружно
поднялись и стоя аплодируют!
Над трибуной всплыло мягкое, лунообразное
лицо блондина-активиста со стройфака. Что скажет, неужели кудряш не
поддержит?
— Товарищи! Товарищи, друзья, от имени строительного
факультета заявляю: антисоветчина не пройдет!
В зале заулюлюкали и
громкими дружными рукоплесканиями захлопали-заглушили активиста-кудряша. Бармин
настойчиво и предупреждающе стучал по микрофону, призывая зал к порядку. А на
трибуне уже запланированный делегат Панченко.
— Ему, — Панченко ищет
взглядом Немелкова. — Ему! — указывает пальцем на Артура, сидящего в пятом ряду.
— Ему, говорящему о серости комсомола и нашей жизни, надо самому заткнуть свой
серый рот, и мы, пользуясь нашей самой широкой демократией, сделаем
это!
В зале — шум, гам, возгласы: “Долой с трибуны подхалима!”, “Позор!”,
“Даешь правду-матку!”.
ОНИ ПРИДУТ, НЕПРИМИРИМЫЕ. Артур видел, слышал,
чувствовал — провал! Неужели провал?! Неужели не будет ни единой поддержки? Эх,
если бы члены его кружка были делегатами конференции, они бы не сдрейфили, они
бы врезали правду-матку.
Однако оставалась надежда: зал неистовствовал,
зал требовал, зал жаждал нового, свежего слова. Шквал поддержавших его
аплодисментов давал уверенность — пойдут, многие пойдут за ним, вернее, пойдут
путем поиска справедливого устройства жизни. Они отвергнут лицемеров, лжецов,
подхалимов, карьеристов, закостенелых политиканов.
О, знал бы в этот миг
Артур Немелков, что такие люди появятся, и очень скоро. В том числе среди
студентов УПИ — непримиримые, отважные, самоотверженные. Готовые на страдание.
Уже через пару лет получат полулегальную известность стихи, которых, “как бритвы
обоюдоострой”, боялись партийные догматики. Их записывали на магнитофоны
“Дзинтарас” и “Днепр”, перепечатывали на пишмашинке. Очень редко они звучали в
исполнении автора.
Автором стихотворений был студент экономфака Отто
Новожилов.
Отто, безусловно, был наслышан о первом — об Артуре Немелкове.
Более того, он входил в бригаду “БОКСа”, выпускавшую оперативные “боксики” на
листах ватмана по материалам конференции.
Вскоре из-под его пера
появились такие строки:
К ним не пришла еще естественная смерть.
Искусственная им не угрожает.
Их лица — как зады. Не то что смех,
Улыбку никогда не выражают.
Жрецы доносов и тупого рвения,
На гениев
кричавшие: “Не сметь!”
Их лечит наше здраво-
охранение,
К ним не
пришла еще естественная смерть.
Ах, сколько на земле печальных вех!
Стреляли очень много. Но не в тех.
Реакция зала не устраивала
президиум, членов парткома, вызванных по тревоге бдительных наблюдателей “в
штатском”, незаметно растворенных среди делегатов конференции, и прочих
партединоверцев.
Захлопывание и даже попытки освистывания своих,
подготовленных во время перерыва, ораторов было для них просто возмутительно.
Скрежетали зубами.
Но подготовленные, верные уставам, солдаты КПСС,
несмотря на шум, выполняли указания, поднимались на трибуну и говорили то, что
велено, то, что надо!..
Однако что это? Кто это вылез к микрофону без
предварительной записи? Какая-то девчонка… Делегат Смирнова? Ну-ну…
—
Многие комсомольцы слабо занимаются политикой и даже спорить воздерживаются.
Почему? А потому, что такие, как товарищ Торопень, тут же приклеят им навечно
ярлык оппортуниста, нигилиста или какого-нибудь декадента. Я — за честный
спор!
За Смирновой — едва видимая из-за маленького роста, приподнявшись к
микрофону на цыпочках, — Мишарина.
“Это — наша, — прошелестело в
президиуме, — эта врежет по немелковщине!”
— Товарищи комсомольцы! Мне по
душе выступление физтеховца. Он говорил, что у нас все заранее решается,
согласовывается, подписывается в нужных инстанциях. Вы думаете, что именно вы
будете сегодня выбирать новый состав комитета? Наивные! Вот! — Она взмахнула над
головой листом, казалось, белый голубь трепетал в ее руке. — Вот он — новый
состав, уже согласованный где надо. Мне еще вчера поручено зачитать на
конференции этот утвержденный список будущих членов комитета. Так о какой
демократии можно говорить даже в стенах УПИ? А ведь так повсюду! Хотите, зачитаю
утвержденных?
Бойкий член президиума сделал пружинистый прыжок к малышке
и выхватил из ее рук бумагу.
Зал уже не шумел, не гудел. Он
неистовствовал!
На трибуну поднялась преподаватель кафедры
марксизма-ленинизма Римма Викторовна Иванова.
Члены президиума
выжидательно повернули головы в ее сторону. Уж она-то, молодой, перспективный
ученый, член комитета ВЛКСМ, уж она-то методично раздраконит ренегата с четких
позиций марксизма-ленинизма.
Зал, казалось, ощетинился, как огромный еж,
готовясь согнать криками и хлопками очкастую ораторшу.
Каково же было
ошеломление и президиума, и зала, когда Римма Викторовна неторопливо
произнесла:
— Мне кажется, мы все должны внимательно отнестись к дельным
и своевременным критическим высказываниям делегата Немелкова. Например, как
можно отрицать законность требования альтернативных выборов? Это не противоречит
Конституции, наоборот — закрепляет ее статьи.
В составе и руководстве
Советов должны оказаться наиболее достойные и компетентные, умные и
честные…
Реплика со второго ряда: “Вы хотите сказать, что сейчас у власти
— рвачи и дураки?”
— Это вы сказали. И не надо меня прерывать и
приклеивать ярлыки, как это делается в отношении честного выступления
комсомольца Немелкова! Мы все виноваты, что привыкли ходить по проторенной
дорожке, голосовать, как будет указано сверху. Заорганизованность и бюрократизм
въелись не только в комсомольские структуры. Я бы многое могла еще сказать в
поддержку позиции Немелкова, но надеюсь, студенты сами поразмышляют, как им и
всему нашему обществу жить дальше.
Новый взрыв аплодисментов, одобрения и
поддержки, пожалуй, не менее бурных, чем после выступления Артура Немелкова. Еще
бы, речь держала не студентка, а преподаватель, да еще какой кафедры — самой
главной, идеологической!
Артур сидел бледный, напряженный, прямой, порой
покачиваясь взад-вперед, периодически откидывая со лба упрямые
волосы.
Вот он и не один.
КАК ГОВОРИТСЯ, ПАРТИЯ ВЕЛЕЛА. С
визгливыми выкриками мчался к трибуне коллега Ивановой по кафедре, известный
всему институту неистовый, буйный, скороговорящий Каро Мкртичевич (язык
сломаешь!) Мкртчан.
Пылкая, как всегда, речь К.М. Мкртчана зафиксирована
в стенограмме конференции и хранится в фондах госархива. Помещать ли ее в нашем
повествовании?.. Зачем? Только место занимать. Уткоречь, как назвал подобную
тарабарщину Дм. Галковский. Возьмите любую газетную передовицу тех лет… Выполняя
решения съезда, необходимо сосредоточить усилия на сплочении общества вокруг
Центрального Комитета, молодежь — передовой отряд советского общества, единство
партии и народа, неизбежность победы, тра-та-та-та-та, все прогрессивное
человечество, тра-та-та…
Однако, произнеся очередную дежурную уткоречь,
солдат партии Мкртчан закончил ее не безобидным кряканьем, а безжалостным
р-р-революционным приговором:
— Таким, как Немелков, — не место в рядах
резерва партии, Всесоюзного ленинского комсомола!
Выступление Немелкова
было сильным ударом для тех, кто сидел на сцене за столом президиума, и для тех,
кто протирал штаны в сером доме на площади Труда. Эхо выступления донесется и до
зубчатых стен на Красной площади.
На удар следовало отвечать контрударом.
И такой, рассчитывали в парткоме и комитете ВЛКСМ, должен нанести не кто-нибудь
другой, а главный комсомолец физтеховцев Георгий Писчасов.
Его срочно
разыскали и пригласили в комитет. Чтобы никто не мешал разговору, в двери
повернули ключ.
Многих Георгий знал в лицо по общественной работе. Толя
Мехренцев, Женя Казанцев, кое-кто из более молодых, Иван Дмитриев, профсоюзный
лидер физтеха… В углу, ближе к двери, молча сидел молодой мужчина с седыми
висками и ледяным взглядом серых глаз.
Перерыв близился к концу, и
разговор был недолгим. Мехренцев, заметно волнуясь, сказал:
— Жора,
надеюсь, ты правильно воспринял выступление Немелкова… Правильно в том смысле,
что ты не разделяешь его позиций. Он нанес сильный удар не только комитету. Ты
должен первым защитить честь УПИ, преданность комсомола делу партии. Я и все мы,
— он окинул взглядом собравшихся, задержав его и на молчащем человеке, — все мы
предлагаем, просим тебя — считай это наказом комитета — выступить с осуждением
Немелкова. Не только от своего имени, но от имени всей делегации физтеха. Только
так!
— Я вас понял, — ответил Георгий, глядя в пол. И, вскинув брови: —
Мы подумаем.
После выступления неистового Каро Мкртичевича самое время
было предоставить слово “обработанному” Писчасову. И тут закоренелые, не
оттаявшие во время оттепели парткомычи получили второй удар.
— Товарищи,
у меня есть несколько предложений по совершенствованию работы комсомолии УПИ. Но
об этом мне хотелось бы доложить подробно на завтрашнем заседании. А сегодня мне
предложено дать оценку выступления моего однокурсника и зама по
идейно-воспитательной работе Артура Немелкова. Во время перерыва наша делегация
собралась на экстренную оперативку. При одном воздержавшемся делегация физтеха в
основном поддерживает выступление нашего товарища…
Показалось, стены
актового зала с гипсовыми барельефами Ленина и Сталина сотряслись от шквала
аплодисментов, заглушая отдельные выкрики “Позор!”, “К ответу
антисоветчиков!”.
Писчасов выдержал паузу, улыбнулся, взглянул в сторону
партера, где сидел Артур, и закончил:
— Выступление Немелкова —
исключительно нужное и своевременное. И поскольку у меня есть опасение в том,
что завтра мне не предоставят микрофона, хочу тезисно изложить соображения по
улучшению общественной жизни.
Во-первых, для повышения активности
комсомола необходимо пересмотреть порядок приема новых членов и принимать в наши
ряды не желторотых птенцов, а осознавших свое место в обществе юношей и девушек,
достигших 16-ти лет.
Во-вторых, хватит жить в потемках! Истина рождается
в споре, поэтому предлагаем проводить открытые диспуты о внешней и внутренней
политике СССР. Нам и всему обществу необходимо понять, какой будет наша страна в
ближайшей перспективе…
Из последних рядов раздался истошный
крик:
— Еще один антисоветчик!
За ним другой — могучим
басом:
— Физтех — осиное гнездо империализма!
И еще:
—
Стиляги!
Однако зал ответил на выкрики смехом, захлопыванием —
поддержкой:
— Говори, Жора, не трусь!
— Писчасов, мы с
тобой!
И Писчасов продолжил:
— В-третьих, необходимо
совершенствовать саму систему обучения в вузах. А для этого — обсуждать на
комсомольских собраниях методы преподавания, новизну изучаемых проблем, будь то
истмат, диамат или специальные, инженерные дисциплины. По крайней мере,
преподаватели, деканы, ректорат будут знать мнение студентов о качестве
лекций…
Сидевший в президиуме член парткома, желая умаслить докладчика и
увести направление дискуссии в иное русло, подал реплику, поддержанную согласным
киванием других сидевших за алой скатертью:
— Вот это — дело, это
правильно! Методика преподавания не должна отставать от проблем сегодняшнего
дня, от тех задач, которые поставлены перед нами двадцатым съездом партии.
Предлагаю последнюю позицию товарища Писчасова внести в проект решения
конференции. У вас все, товарищ?
— Почти все, — спокойно ответил
физтеховец. — Совсем немного осталось… Возвращаясь к выступлению члена нашей
делегации, хочу добавить, что грубое осуждение его выступления, приклеивание
разного рода ярлыков наша делегация расценивает как стремление вообще отбить
охоту говорить прямо, честно и открыто о недостатках нашего бытия. Так и будем
жить? Зачастую активность масс заглушается чрезмерной централизацией и
нарушением демократических норм. Ярким примером может служить практика
проведения выборов, демонстраций, митингов, выступлений в печати. Примеры?
Откройте завтрашним утром свежую многотиражку с материалами конференции… Вы
найдете в ней выступление Артура Немелкова? Мы, физтеховцы, спрашиваем: “ТАК И
БУДЕМ ЖИТЬ?”
Закончился первый день мятежной конференции. Нелегкий для
Немелкова и физтеховцев. Тяжелый и для парткомычей. Предстояла подготовка ко
второму дню сражений.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Продолжение конференции было
перенесено с 10 на 12-00. Партийному руководству, его верным помощникам,
факультетским бюро КПСС предстояло провести жесткую оперативную работу. Тем
более поступили указания не только из обкома партии — уже на проводе были
секретари ЦК. И не могло быть иначе! О мятежном выступлении физтеховцев проникли
скупые информационные сообщения в местную печать (не успели вовремя
притормозить!). Более того, несмотря на глушилки, люди услышали новость по
различным “голосам”!
А те, кто не слышал, узнавали о Немелкове и о слове
ПРАВДЫ, прозвучавшем на далеком Урале, от соседа, от товарища по работе, из
разговоров в магазинной очереди за субпродуктами.
Утренние партийные
оперативки, вызовы на ковер, закручивание гаек, промывание мозгов факультетских
делегаций, категоричное требование осудить Немелкова и платформу физтеха
возымели свое действие. Еще бы: руководители парткома не только чувствовали, но
и знали: пусти конференцию по прежнему, неуправляемому, пути — конец их
партийной, педагогической и научной карьере — моральная смерть. И поехало как
по-накатанному!
Итак, день второй. В парткоме решили начать не с
наставлений со стороны руководителей парторганизации или обкома, а дать слово
студенту, активисту-комитетчику. Чтобы выглядело убедительно для всего зала: вот
она, правда, она исходит не от заблудшей овцы Немелкова, а от такого же, как вы,
молодого человека, благодарного советской власти и партии за образование, за
общежитие, за новые лабораторные установки, за великолепных
преподавателей.
На эту роль был выбран Николай Хрященко.
Славным
парнем был Коля! Простецкая пролетарская ряшка, карие глаза, улыбка до ушей,
живая речь с нередким русским соленым словцом — казалось бы, душа-человек.
Однако заносило Колю! Можно многое поведать о его заносах, которые добром не
кончились. Но об этом — позднее. А в тот раз, в пятьдесят шестом, пошел Н.
Хрященко на поводу у парткомовских коневодов. Пожалеет впоследствии. Однако что
было, то было, из песни слова не выкинешь, грехи вином не
зальешь.
Передаю выступление Николая Хрященко по стенограмме, со всеми
шероховатостями и некоторой невнятицей (видимо, тогда уже скребли кошки на душе:
правильно ли поступаю?).
— Ребята... э-э-э, делегаты-комсомольцы, я тут
подумал, что комсомольцы могут подумать, что если мы будем давать отпор
Немелкову, то это будет зажим критики, и наши комсомольцы будут
бояться…
— Ленинскому комсомолу нечего бояться! — выкрик из зала,
по-видимому, Торопеня, тут же заглушенный смехом.
— Да… Я продолжу. Тут
хочется, чтобы комсомольцы увидели, сколько в выступлении Немелкова
антисоветского. Комсомольцы должны не просто заучивать марксизм-ленинизм, а
переваривать его всей душой, убеждаться в правильности его, и их нелегко будет
сбить с пути… Письмо ЦК предупреждало, что появятся люди, которые критику
практики жизни перенесут на всю социалистическую систему. Политика партии была
всегда правильной, иначе наша страна не стала бы индустриальной державой.
Выступление Немелкова было бы неплохим, если бы оно было проникнуто духом
доброжелательности, а оно было сплошь огульным охаиванием нашей
действительности. В нем смаковались перевранные и извращенные
факты.
Николай помолчал, выпил до дна из граненого стана водицы и,
заглянув в лист бумаги, где было вчерне набросано выступление, согласованное с
парткомом, закончил:
— Его, Немелкова, выступление нужно и можно считать
антисоветским.
Потоптался за трибуной и, почесав в затылке, зачем-то
добавил, может быть, желая как-то спасти Немелкова от предстоящей
“казни”:
— Слабо, сухо поставлена в институте агитационная работа и
политучеба.
Последняя реплика никак не планировалась парткомом, ну никак!
Получилось некоторое обеливание Немелкова: дескать, не он виноват, а
руководители партийной организации: недоработали в политическом воспитании
студенчества. И это — в присутствии членов обкома КПСС и информаторов ЦК. Эх,
Коля, Коля!
Об уральском бунтаре было доложено на самом верху. И Сам,
внешне похожий не на попугая, а на другое домашнее животное, побагровел и,
брызнув радужным фонтанчиком слюны, проскрипел:
— Кто упустил? Заговор?
Вы, молокососы-комсомольцы — цекушники? Или вы, чекисты-комитетчики? Не
бдительные вы, а бздительные, только штаны, засранцы, просиживаете! Действуйте,
болваны! Или я вас — в порошок… Кто посажен ректором в этом уральском
вузе?
И средней величины попугаи, и мелкие волнистые, взволновавшись,
застрекотали-заверещали-зачирикали.
Выступавший “от имени и по поручению”
всего химико-технологического факультета помогал себе взмахами кулака, будто
гвозди в трибуну вбивал:
— Мы не можем не дать отпор выступлениям с
чужого голоса, под которыми подпишется любой лютый враг Советского Союза.
Немелков использовал в своем выступлении разоблаченный ЦК КПСС прием вражеской
пропаганды — выдать недостатки, связанные с культом личности, за порочность всей
нашей социалистической системы. Мы считаем Немелкова, ставшего рупором
буржуазной пропаганды, недостойным находиться в рядах комсомола! Требуем от него
и от Писчасова публичного отказа от своих высказываний!
Вот оно,
прозвучало… Исключение из комсомола… Это был очередной, может быть, ГЛАВНЫЙ
УДАР. Удар, который Немелков предвидел, ожидал. Тут строгим выговором не
ограничатся. Однако химфаковец нанес удар посильнее (так было срежиссировано
парткомом): если Немелков и делегация физтеха сочтут свои выступления
ошибочными, незрелыми, непродуманными и открыто заявят об этом, конференция, в
достаточной степени осудив их и приняв решение об улучшении
идеологически-воспитательной работы, войдет в привычное русло.
Что
дальше, кто следующий? Неужели ни один факультет не поддержит Немелкова, неужели
так и будут, как слепые, шарашиться за слепыми вождями?
И на второй день
— ни один не поддержал! Следом за руководителем делегации ХТФ на трибуну один за
другим поднимались представители еще семи факультетов и “дудели в одну дуду”:
отщепенец, вредитель, подпевала западной пропаганды. И — новый удар, вслед
вчерашним клеймам и химфаковскому: антисоветчик. Это уже — на грани предателя
Родины.
Оставалось выступить Георгию Писчасову.
Тут по залу
прошелестел шорох-шепоток. Артуру, сидевшему вместе со своими товарищами, было
видно, как забронированные места в первом ряду заняли важные персоны — секретарь
горкома КПСС товарищ Осипов, секретарь обкома товарищ Куроедов, рядом — товарищ
Мазырин, от областного комитета ВЛКСМ, и товарищ Пономарев — от горкома
комсомола. Важные птицы слетелись!
Руководителям упийской конференции
показалось, что линия партии, указания парткома поддержаны, выступление
отщепенца осуждено. Можно вздохнуть свободно. Но прежде чем дать слово
Писчасову, которого накануне, кажется, удалось уломать... Хотя после вчерашнего
от этих физтеховцев всего можно ожидать! Да, прежде чем выпустить на трибуну
секретаря бюро ВЛКСМ Георгия Писчасова, председательствующий Хрященко (пошел в
гору!) предложил выступить — по продуманному сценарию второго дня, для
укрепления отвоеванных позиций — секретарю обкома ВЛКСМ
Мазырину.
Куроедов сжал Мазырину локоть:
— Давай, Володя, зачитай
решение и прокомментируй его с перцем, по-нашему, по-большевицки!
И
товарищ Мазырин зачитал по бумажке постановление обкома ВЛКСМ, подготовленное на
бюро в полночь. Оперативно сработал штаб областной комсомолии!
Зачитав
постановление, Мазырин обхватил микрофон рукой и размеренно, как и подобает
руководителю, произнес:
— Ленинский комсомол всегда был верным помощником
партии и находился в самых горячих точках народного хозяйства. А скука и
серость, о которых вчера говорилось с этой трибуны, царили именно там, где
находился Немелков и подобные ему серенькие люди. К нашему большому сожалению,
политически близоруким оказался и секретарь бюро ВЛКСМ Писчасов, который стал
петь под дудочку распоясавшихся немелковых. Мы ждем от него принципиальной
оценки своего вчерашнего выступления… Еще хочу добавить, чтобы подчеркнуть
важность и ответственность тех слов, которые звучат с этой трибуны: попади текст
выступления Немелкова и вчерашнее решение физтеховцев зарубежным
корреспондентам, они устроят такую шумиху на весь мир! Вот кому нужны подобные
выступления!
В зале прозвучали ленивые аплодисменты.
Председательствующий, оттягивая выступление Писчасова и, как ожидалось,
покаянное слово самого Немелкова, решает выпустить на трибуну представителя
чехословацкого землячества. Было бы весьма важным, если бы студенты-демократы
поддержали наметившуюся линию осуждения немелковщины, особенно важно, учитывая,
что различные “голоса” уже поднимают шумиху вокруг вчерашних событий.
—
От имени иностранных студентов слово имеет товарищ Браге.
Долговязый, как
пожарная каланча, Браге поднимается из середины зала и, заметно волнуясь,
заявляет:
— От имнно студентщесво Чехословакии, Венгрии, Полонии я
полагаю заявит, чито ми не можьим, не должны быт согласни с ходом данной
конференции. Этто особенно проявлено в выступлэнии последнего друга, простите,
товарьища из городской управы Союза млодежи. Налицо подавлении иных взглядов,
что уббывает, у-би-ва-ет инициативу комсомола. Да… В знак протеста мы
отказываемся от слова и покидаем вас, вашу конференц.
В зале — гул
одобрения и одинокий выкрик: “Не вмешивайтесь в наши
дела!”
Председательствующий приглашает секретаря обкома Куроедова пройти
на сцену, занять почетное место в президиуме, куда он был избран на утреннем
заседании. Свободный стул ждет. Но секретарь скромничает, машет рукой, как бы
благодарит за внимание. Проходит в середину зала, где только что сидели
демократы. Он хочет быть с массами, чтобы лучше чувствовать настрой молодых
людей и одновременно, по возможности, вести с ними воспитательную
беседу.
Что говорить, заявление Браге, да еще от имени всех демократов,
подлило масла в огонь. Председательствующий Леонид Бармин (снова — опытный
Бармин, недолго Коля Хрященко властвовал) шушукался с членами президиума: не
объявить ли перерыв до завтра. Однако на сцену, как запланировано, поднимается
Георгий Писчасов. Была надежда у идеологов, что он и другие физтеховцы
пересмотрели за ночь свои позиции…
Глядя куда-то вниз, под трибуну,
Писчасов произнес еле слышно:
— Вчерашняя позиция нашей делегации была
совершенно неправильной…
В зале зааплодировали. Но это были уже другие
аплодисменты, не тех студентов, которые накануне поддерживали Немелкова, а тех,
кто только что выступал “от имени и по поручению”. Вальяжно рукоплескали и
сидевшие в первом ряду руководители партии и комсомола.
После такого
начала и хлопков одобрения Артур понял, что он остается с залом (только ли с
залом Политехнического?) ОДИН НА ОДИН.
Зачитывая по заранее заготовленной
“шпаргалке” слова отречения, Писчасов порой отрывался от записки и пытался
пояснить причины изменения вчерашней позиции, пытаясь вытащить из омута ярлыков
не только себя, но и своего товарища:
— Мы хотим, чтобы комсомольцы УПИ
правильно поняли нас и ту критику, которую вы слышали от нас и от Артура
Немелкова. Разве мы пытались опорочить советский строй, тем более — политику
партии? Мы хотели заострить внимание лишь на отдельных, повторяю, отдельных
недостатках в нашей жизни. Да и то они, эти недочеты, более присущи недавнему
прошлому, связанному с культом личности и осужденному ХХ съездом.
Это
было мудрое отступление. Писчасов как вожак физтеховцев спасал своих товарищей.
И не только их, но, возможно, весь лучший факультет института и его необходимых
стране специалистов. А то, что угроза расформирования факультета появилась,
Писчасову внятно намекнули.
Зачитав отречение, Георгий взглянул в зал,
туда, где сидел Артур. Потом повернулся в сторону президиума и, максимально
используя децибелы новенького клубного микрофона, громогласно и гневно
заявил:
— Одновременно с вышесказанным делегация протестует против
обвинений Немелкова в троцкизме, правом оппортунизме… Я, мы рассматриваем это
как стремление отбить охоту у молодежи говорить прямо, честно и открыто о нашей
жизни!
Собираясь покинуть трибуну, Писчасов сложил лист бумаги, сунул его
в карман пиджака, вдруг вновь приник к микрофону и — скороговоркой:
—
Товарищи, будем честны и правдивы. Активность масс низка. Как там у Пушкина —
“Народ безмолвствует”, — вот и мы… Инициатива молодежи заглушается чрезмерной
централизацией и нарушением демократических норм… На местах!.. — Писчасов
пытался нащупать компромисс и все же решился врезать правду-матку: — Ярким
подтверждением тому — практика проведения выборов, демонстраций, митингов… К
примеру, выборы в Советы. Выдвигается лишь один кандидат. И что же — хорош он
или плох, честный слуга народа или пассивный соглашатель, поскольку он в
бюллетене в единственном числе и если он не отъявленный мошенник, каких хватает,
то обязательно пройдет во властные структуры. Так и будем жить?
ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС. Опять? Опять новый поворот в сторону немелковщины?! Жора Писчасов своей
самодеятельностью перечеркнул не только свое отречение, но и все подготовленные,
ранее прозвучавшие, верноподданнические выступления представителей факультетских
делегаций.
У парткомычей и комитетчиков оставалась одна надежда. Как ни
странно — на самого Немелкова. С ним также говорили в парткоме. Неужели не
образумился?
Писчасов сходил с трибуны, а в президиуме уже зачитывалась
записка, поступившая из зала, где предлагалось заслушать Немелкова с требованием
самоосуждения своего выступления как недостойного не только комсомольца, но и
гражданина СССР. Круто кто-то выразился! Ну, что же, пусть Немелков почувствует,
куда его занесло.
— Меня предлагают исключить из комсомола…— Артур,
окидывая взглядом зал, снял очки. — Вот до чего дошло! Но я, кажется, ничего
нового не сказал. Все это звучало на ХХ съезде. По крайней мере, на критику
недостатков нас настраивает съезд. Могу даже согласиться, что для некоторых
форма моего выступления неприемлема и отвратительна. Да, кого-то крепко задело!
Но я своей цели достиг! Посмотрите, как активно пошла работа конференции.
Сравните ее начало и продолжение. Люди проснулись! Меня обвиняют в том, что я ни
слова не сказал о хороших делах комсомола, а говорил только о плохом. Да ведь об
успехах столько трубят! Не пора ли сосредоточиться на недостатках?
Зал
вновь зашелся аплодисментами. Молодежь приветствовала не просто критика и
смелого оратора, она увидела в Артуре лидера, вождя, за которым готова была
идти.
В президиум одна за другой полетели записки. Не зачитывать?
Прервать этот поток? Но делегаты конференции (гляди шире — пресса отечественная
и особенно — зарубежная) расценят это как зажим критики и правды, — о чем
говорили Немелков и Писчасов. Решили сортировать записки и передавать на трибуну
исключительно “правильные” вопросы.
— В записке пишут, что я сгущаю
краски… Подпись неразборчива… Возможно. Но я делаю это намеренно, чтоб вы
протерли глаза, очнулись и взялись за дело улучшения общественной жизни… Так…
“Чем объяснить ваш тезис об апатии общества?” Отчасти я уже сказал об этом во
вчерашнем выступлении. Но если позволите, кое-что поясню. Апатия,
безынициативность, запуганность общества объясняются, с одной стороны,
атмосферой культа личности, которая полностью не изжита и сегодня, с другой
стороны — многие разочаровались в идеалах после развенчания культа. Сказалась и
война, унесшая многих замечательных и активных людей. А главное — сплошная
бесхозяйственность, экономическая неразбериха. Твердим, что каждый человек у нас
хозяин своей страны, а на деле — я повторяюсь — советские люди отлучены от
собственности: институты, заводы, колхозные поля — все это наше и в то же время
НИЧЬЕ!.. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Он не простой, можно долго
рассуждать, но, согласитесь, проблема есть…
Артур развернул большой
тетрадный лист и начал было зачитывать “Какие цели…”, да вовремя остановился.
Неизвестный, явно скрывшийся под фамилией Иван Иванов, писал: “Какие цели
ставила руководимая вами антисоветская подпольная организация?”
Смяв
писанину, сунул в карман. Развернул другую, только что переданную:
— “Что
вы имели в виду, говоря, что после смерти Сталина осталось его уродливое
детище?” Отвечаю. Люди по-прежнему живут в страхе, всего боятся. Государство
считает нас быдлом, без указания сверху мы шагу ступить не можем. Наша
Конституция вроде бы дает широкие права, но попробуйте ими
воспользоваться!
Под аплодисменты Артур спустился со сцены. Сел на свое
место. Взглянул вверх. Слева, сверху, на него взирал алебастровый Ленин с
лучистыми морщинками у глаз. Издали, справа, — холодно молчавший Сталин с
непропорционально крупным носом.
Государство считает нас быдлом!
Казалось, его выкрик с трибуны продолжает то ли повторяться сидящими в зале, то
ли многократно отражаться от гладких бежевых стен и потолка.
“Ты подписал
себе приговор, — будто нашептывали в одно ухо. — Пли!”
“Ты сделал выбор,
иди до конца, — гудело в другом ухе. — Запомни: конец октября тысяча девятьсот
пятьдесят шестого года — ГЛАВНЫЕ ДНИ ТВОЕЙ ЖИЗНИ. Других не
будет”.
Председательствующий Леонид Бармин развернул записку,
адресованную лично ему, не для оглашения: “Немедленно объявите перерыв до
завтрашнего дня. Куроедов”.
“ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ”. Были еще день третий и
день четвертый. Партаппаратчикам казалось, что произошел перелом в ходе
конференции, желанный перелом. Решающее слово сказал дипломатичный В.А.
Куроедов, секретарь обкома КПСС.
“Выступление Куроедова носило скорее
отеческий характер”, — замечает Е.И. Казанцев (выпускник 1956 года, занимал ряд
ведущих общественных и административных должностей, был ректором Уральского
лесотехнического института, в 1985–1993 гг. — первый зам. министра образования
РСФСР. После “немелковской” конференции избран секретарем комитета ВЛКСМ
УПИ).
Куроедов спокойно говорит, что он второй день на конференции, что
он внимательно слушал выступления и беседовал с делегатами. Его удивило, что
одни и те же студенты по-разному реагируют на выступления своих товарищей. Они
то поддерживают сторонников Немелкова, то энергично осуждают их. (Попробовали бы
студенты в беседе с партийным боссом с глазу на глаз поддержать Немелкова! —
В.Б.) “Мы живем в сложное время, — говорил Куроедов. — И ошибки, даже очень
серьезные, бывают не только у молодых людей, но и у людей старше вас. Я не хочу
обвинять Немелкова в его ошибках, хотя ошибки носят серьезный характер, и они
свидетельствуют о просчетах его и многих делегатов в анализе развития нашей
страны…”
Двойной стандарт оратора: “не хочу обвинять” и тут же — “ошибки
носят серьезный характер”. Скоро, скоро эта оценка секретаря обкома будет
воспринята как команда к расправе с неугодными. Хотя, заметим, Сам никакой
команды не давал, более того, весьма несурово посетовал на провинившихся
молодых, несозревших юнцов.
“…Страна строит новое общество, и можно ли
обойтись без ошибок, даже очень крупных? Мы должны учиться, чтобы ошибок было
меньше, самокритично их анализировать, как это делает наша партия, скажем, на ХХ
съезде… Я хорошо знаю, что студенты УПИ во многом помогают нашей стране… Но
сегодняшняя конференция свидетельствует о недостатках в политической
подкованности многих делегатов”.
Но что характерно — секретарь обкома,
опытный лис-идеолог, не вступает в дискуссию, не отвечает ни на один
поставленный Немелковым острый вопрос. Он умывает руки, но одновременно дает
установки. Заканчивая убаюкивающее выступление, которое продолжалось 10 минут,
обкомовский “папа” заключает и Немелкова, и тех, кто с ним, прямо-таки в
удушающие “отеческие” объятия: “Считаю, что оценку выступления Немелкова может
дать комсомольская организация, где он учится и где хорошо его
знают…”
Да, не наломать дров, следовать Уставу ВЛКСМ! Согласно Уставу,
исключать из комсомола конференция не вправе, вначале это сделает первичная
организация. Так что демократические нормы, о которых столь печется Немелков,
будут соблюдены. А то ведь некоторые горячие головы предлагают отобрать у него
комсомольский билет тут же, немедленно, на конференции…
И, заканчивая
“объятия”, заботливый обкомовский папаша говорит:
— Я поддерживаю тех,
кто считает, что делегаты комсомольской конференции высшего учебного заведения —
авторитетной организации в нашей стране — должны, прежде всего, сосредоточить
внимание на дальнейшем улучшении дел в своей организации.
Зал из
вежливости порукоплескал важной персоне. Аплодировали в основном торопени и
другие антинемелковцы. А еще крепко ударяли ладонями хмурые немолодые дядьки.
Явно не студенты!
Геннадий Потапов, математик, поэт, почетный главный
редактор “БОКСа”. Мы с Хазаном как раз сидели на балконе и “обсасывали” темы для
боевых листков… Когда внизу забушевало, мы бросили свои дела и начали слушать… А
когда на трибуну начали выскакивать оголтелые злопыхатели, Генрих, негодуя,
прохрипел: “Эх, Гена, сейчас бы сюда пулемет, мы бы с тобой, Гена, сказали свое
слово!”
Генрих Хазан, доцент металлургического факультета, почетный
главный редактор “БОКСа”. На третий день вход в зал был строго ограничен,
вернее, пропускали только по мандатам и удостоверениям приглашенных. Четверо
дюжих молодцев с красными повязками, рассмотрев мандат, открывали тяжелые двери.
Дошло до курьеза. Немелков по рассеянности или из-за понятного волнения забыл
дома мандат, и его с большим трудом, по согласованию с президиумом, впустили на
конференцию.
Нам, “боксерам”, тоже пришлось доказывать законность
присутствия на балконе. Глянув вниз, я был удивлен изменившимся “пейзажем”
партера: откуда среди студентов столько плешивых? Вскоре все прояснилось. По
распоряжению райкома партии на студенческую конференцию были командированы
рабочие Уралмаша, ВИЗа, “Полтинника”. Была надежда, что представители
проверенного рабочего класса создадут в зале необходимую атмосферу, там, где
надо, поддержат “бурными, долго не смолкающими” и заготовленными возгласами, а
если потребуется, выступят с трибуны.
На трибуне конференции — знатный
кузнец Уралмаша Тимофей Олейников:
— Мне сказали, что студенты критикуют
всяческие наши порядки, в том числе торговлю. Соглашусь, что среди торговых
работников, как и среди других рабочих и служащих, есть даже преступники. Но у
меня — сестра, она работает в магазине. Я хорошо знаю ее семью и ее друзей. Все
они — честные труженики. Так что нельзя всех обвинять в нечестности… Советская
власть дает нам и вам, студентам, практически все. Берегите ее и не поливайте
грязью… А смелого критикана, выступавшего здесь, я готов взять в свою бригаду на
перевоспитание.
Конференция увядала, боевой настрой зала угасал, а может,
только пригас, оставив тлеющие угли в мыслях, разговорах, записях тех, кто
четыре дня ВПЕРВЫЕ жил в необыкновенной, небывалой атмосфере волеизъявления и
борьбы за СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Артур ждал Раечку. Он ждал Раечку “У сапога”.
Так называлось постоянное место встреч и свиданий — возле огромной статуи
Железного наркома Орджоникидзе (партийная кличка — Серго). Георгий
Константинович — человек трагической судьбы. Преданный делу нового устройства
общества и… покончивший с собой в годы правления своего земляка и
соратника.
Выкрашенный в бледно-желтый цвет, Серго вздымал над плечом
руку с растопыренными пальцами.
Часть третья
Пытки не будет, кнута
не миновать
Праздник позади, наступили рабочие будни, полные тревог для
парткома, бюро, месткома, деканатов, ректората и для многих студентов, для
студентов-физтеховцев — особенно. Партфункционерам желалось забыть о
студенческом мятеже как о страшном сне. Не получалось. И главный страх был не
только в прошлом, нет, а в ожидании повторения немелковщины.
Листовки,
разбросанные неведомой рукой в общежитских корпусах Втузгородка, стали серьезным
сигналом к действиям по решительному искоренению инакомыслия.
Не дремало
и бдительное око Кремля. Большие попугаи требовали наказать не только
студентишек, поддержавших Немелкова, но — пропесочить уральских партийных
попугайчиков, допустивших немелковых — писчасовых на конференцию, прошляпивших
назревавший чирий антисоветизма.
В. Толстенко (из статьи “1956: первые
заморозки”, газета “Уральский рабочий”, 21.12.91). “Прямо скажем, задал Немелков
работы своей выходкой. Подсиропил жизнь функционерам. Ну что за удовольствие
читать документы, зафиксировавшие их живучую деятельность!”
Отметим, что
партийные розги начали мелькать под сводами актового зала УПИ еще во время
конференции. Многими уважаемый, умный и тактичный студент-морячок Толя Мехренцев
(в будущем ответственный директор завода и деятельный председатель облисполкома)
не был рекомендован в новый состав комитета ВЛКСМ. Требовалась проверенная,
управляемая и преданная партии фигура. Начали судорожно перебирать возможные
кандидатуры. О, конечно же, как сразу не додумались? Кто в числе первых дал
отпор физтеховцу-антисоветчику, кто нанес удар по немелковщине?..
Евгений
Казанцев: “Когда в конференции был объявлен перерыв, я ушел на кафедру.
Занимаюсь своими делами. Раздается звонок из комитета ВЛКСМ… Я пришел и услышал
свою фамилию, рекомендуемую в состав комитета. Я взмолился: я уже проработал
заместителем и секретарем три года. Сейчас я аспирант, член парткома… Товарищ
заявляет, что именно они, парткомовцы, поддерживают это
предложение…”
Казанцев прекрасно понимал, почему Мехренцева не избирают
на новый срок, практически отстраняют от комсомольского штаба. Но! Партия
сказала: “Надо!” — комсомол ответил: “Есть!”
Е. Казанцев: “Так меня по
предложению Н.Г. Веселова избирают секретарем комитета”.
В. Толстенко (из
документов): “…Бюро обкома КПСС, пожурив за нерешительность Веселова (зам.
секретаря парткома УПИ, очень милый, интеллигентный человек, авторитетный
ученый, впоследствии — ректор Института народного хозяйства. — В.Б.), Мазырина
(его-то за что, оголтелого, ведь он “отработал свой хлеб” на конференции?
Видимо, за утрату бдительности при работе с молодыми. — В.Б.) и еще одного
секретаря горкома ВЛКСМ — Пономарева, обрушилось на Осипова (в нашем
повествовании —Стоканов), который “проявил недисциплинированность (!) и
отмолчался, допустив, чтобы в его присутствии были выступления, косвенно (?)
поддерживающие Немелкова”.
Из протокола заседания парткома
УПИ
Лопанов: “В группах начали проводить беседы, для этого подобрали
комсомольский актив, в каждую группу направлены коммунисты”.
Поручиков:
“Наблюдаем за настроением студентов — венгров и чехов. Коммунисты дежурят в
корпусах, ведут разъяснительную работу, чтоб ПРОЯСНИТЬ сознание студентов. Резко
выступил против осуждения Немелкова студент Шаевич. Решили вызвать отца и
поручили зав. кафедрой Терновскому побеседовать с ним”.
Каверина:
“Партбюро направило в общежитие комсомольцев, чтобы прислушивались к
разговорам”.
Буторин: “Во многих группах просят зачитать выступление
Немелкова. На факультете особенно вызывающе ведут себя тт. Бестужев, Сочнев —
оба кандидаты на отчисление”.
Плетнев (секретарь парткома): “Секретарям
факультетских партбюро нужно заняться коммунистами, которые воздержались при
голосовании. А чтобы выступление Немелкова читать… В этом нет
необходимости”.
ФИЗТЕХ ПОД УГРОЗОЙ. Парткомычи занимались прочисткой
мозгов. А что же наш герой?
Артур знал, что в факультетское бюро ВЛКСМ
поступил строжайший устный циркуляр: выполняя решение конференции, провести
собрания в групповых первичках и исключить Немелкова из рядов ВЛКСМ. Конечно, с
ним могли бы расправиться на более высоком уровне, в комитете комсомола УПИ,
который имел статус и полномочия райкома. Но в верхах решили соблюсти демократию
и, в соответствии с Уставом, провести экзекуцию снизу (чтобы одновременно
повоспитывать рядовой состав), а затем это решение — желательно при единогласии!
— утвердить на заседании комитета.
Как поступят его товарищи? Он готов
был к любому решению. Удержаться бы в институте! В случае худшего переживал не
за себя — за родителей. Как им сообщить, как отец перенесет крушение надежд на
единственного сына?
А если покаяться — могут простить, отделается
строгачом, и может быть, даже оставят в комсомоле.
Но каяться он не
будет.
Однако Немелкова поджидал удар посильнее исключения из ВЛКСМ,
совсем другое, чего нельзя было предусмотреть заранее.
Несколько человек
рассказали Артуру, что о его выступлении на конференции взахлеб вещают западные
радиостанции. И это — в условиях, когда в мире возникло несколько горячих,
огневых точек. В Венгрию уже направлялись воинские подразделения СССР,
накаляется обстановка на Суэцком канале. Слово Правды, произнесенное студентом
на Урале, становилось для закордонья хорошим идеологическим оружием. И комсорг
группы Леня Новиков, товарищи по общежитию советуют Артуру зайти в комитет
комсомола, заявить — он, Немелков, к этим передачам не имеет никакого отношения,
интервью не давал, текста выступления не вручал, листки с тезисами у него сразу
же забрал кто-то из президиума, и он их больше не видел.
Студент Немелков
так и поступил. На следующий день после Октябрьских праздников поднялся по
парадной лестнице главного учебного корпуса и открыл дверь комитета ВЛКСМ.
Сидевшие за длинным столом оборвали разговор на полуслове и уставились на
вошедшего. Артур разглядел товарищей, знакомых по общественной работе, нового
секретаря Женю Казанцева. Были и другие, со значками членов Верховного Совета
СССР,— видимо, залетные гости, москвичи.
Не успел Немелков протянуть лист
бумаги с объяснением своей позиции в отношении передач Би-Би-Си и с
рассуждениями по совершенствованию общественной жизни в стране, действий
комсомола совместно с активными партийцами, что особенно важно в условиях
осложнившейся обстановки… Не успели заседавшие прочесть представленное, как,
перебивая друг друга, обрушились на Немелкова с яростными осуждениями, с
обвинениями, со старыми и новыми ядреными ярлыками.
Артур понял, что
вошел в помещение комитета в разгар обсуждения его недавнего
выступления.
И только коренастый крепыш с розовым лицом, явно прибывший
из Москвы, с молчаливой ироничной улыбкой поворачивал голову то в сторону
осуждавших, то в сторону осуждаемого.
Поднявшись, он шумно отодвинул
стул, извинился перед собравшимися и предложил Артуру выйти поговорить по
душам.
Они прошли в маленькую комнату редакции “ЗИКа”, упийской
многотиражки.
РАЗГОВОР НА ЗИКОВСКОМ ДИВАНЕ. Артур Немелков: “Мы уселись
на старый, промятый редакционный диван. Москвич буквально ошарашил
меня.
— Знаешь ли ты, Немелков, что стенограмма твоего выступления
находится в посольстве одного, мягко говоря, не очень дружественного нам
государства? Удастся ее оттуда извлечь или нет, зависит от того, как в ближайшее
время сложится международная обстановка. А нам очень не хочется, чтобы твое
выступление, наделавшее столько шуму в стенах уральского вуза, стало достоянием
наших идеологических противников, совсем не хочется! Артур, ты хотя бы сам
осознаешь, какое оружие ты даешь в руки недругам Советского Союза?
Он
помолчал. Меня удивило, что он называет меня по имени и обращается на ты, как
товарищ по комсомолу. Подкупало и его откровение о задаче изъятия стенограммы, и
доверительный, спокойный тон. Не тот лай, что раздался в стенах комитета. Он
помолчал, будто давал мне передышку и время разобраться в рое мыслей…
—
Если удастся провернуть операцию и изъять документ, то, может быть, тебе ничего
и не будет. Поверь, Немелков, я лично с тобой согласен почти по всем вопросам.
Но не надо было так резко! Народ наш к этому не готов, не созрел еще.
—
Простите, — я глядел ему прямо в глаза. — Вы сказали, что мне ничего не будет, а
я и не боюсь никаких последствий, я все давно продумал. Так что — хоть к стенке
ставьте! — И добавил: — За правду и пострадать не страшно.
— Ишь ты какой
ершистый! Но сейчас речь пойдет не о тебе. Доверительно сообщаю то, о чем никто
пока в УПИ не знает. Лишь несколько человек в парткоме и — ректор.
Он
помолчал, как бы обдумывая: говорить — не говорить. Вздохнул и
продолжил:
— В ЦК партии есть мнение — РАСФОРМИРОВАТЬ ВАШ ФАКУЛЬТЕТ, раз
он проявил себя политически неблагонадежным. Но ты человек сознательный и,
надеюсь, не желаешь ребятам зла? Если комсомольцы физико-технического факультета
примут правильное решение, признают ошибки, факультет, скорее всего, сохранится,
а если…
Вот это был удар! Посильнее нокаута.
— Этого невозможно
допустить! Это жестоко! При чем тут весь факультет? Наши выпускники необходимы
стране, атомной промышленности, предприятиям особого режима, о чем вы, вероятно,
информированы, и вдруг — расформировать?! Только что построили новое здание,
оснастили его бетатроном, новыми современными лабораториями и… Да кому такое
могло в башку, простите, в голову прийти? Нет-нет, нужно предпринять все
возможное… Сохранить факультет!
— Кстати, — москвич вдруг переменил тему
разговора, — не знаком ли ты с неким Кацнельсоном… нет, погоди… — он раскрыл
блокнот в алой обложке, — с Вадимом Консоном?
— С Вадимом? Кто ж его не
знает! Лучший конферансье. Я тоже немного участвую в самодеятельности.
—
Надеюсь, ты не близко дружен с ним? Разве не слышал, что натворил этот
Консон-Кацнельсон? Понимаю, тебе в эти дни было не до слухов… Мне вчера вручил
рапорт исключенный студент Кононов. Фронтовик, мечтал вступить в партию. А ему в
вашем, товарищ Немелков, общежитии устроили настоящую провокацию. Да слышал ты о
нашумевшей истории, не отпирайся!
— Слышал — не слышал, при чем тут я,
при чем физтех? Консон с другого факультета.
— Но почему-то все
происходит именно в вашем корпусе, в вашем студенческом доме! И твое
необдуманное, несвоевременное выступление, и анти-, сам понимаешь, какой сговор
делегации физтеховцев… А тут еще Консон развел блядство! Извини за выражение.
Молчишь? А мне перед ПЕРВЫМ, — он кивнул на потолок, — мне, поверь, не удастся
отмолчаться. Ладно, с Консоном и с Василием Кононовым разберемся… Вернемся к
твоим проблемам. Итак — под угрозой не только твои сообщники,
единомышленники-анархисты, как хочешь называй, — под угрозой факультет и судьба
сотен молодых людей. Думай, Артур! Давай вместе думать… Что ты можешь
предложить? Есть соображения? Партком принял решение провести разъяснительную
работу во всех учебных группах. Но студенты — народ горячий, всего можно
ожидать. Меня посвятили в настроение конференции после твоего выступления. Ты
живешь в общежитии, общаешься с товарищами, скажи — как поведут себя физтеховцы?
Чем ты можешь помочь родному факультету?
Он замолчал. Я задумался. Не
знаю, сколько длилась эта пауза. И вдруг мне пришла в голову дельная, как мне
показалось, спасительная мысль. Как будто кто-то свыше, извне, подсказал мне
ее.
— Мне кажется, без тщательной подготовки групповые собрания не
провести. Необходима серьезная работа…
— Партком ведет работу…
—
Этого недостаточно! — Помню, я поднялся из диванного углубления и зашагал по
редакционной клетушке, тяжело, как медведь в зоопарке. — Так! Я готов пойти в
группы и обсудить необходимость моего исключения из комсомола, добиться принятия
такого решения на предварительном этапе, до общефакультетского собрания. Тем
самым комсомольцы докажут свою верность…
Московский крепыш тоже поднялся
с дивана:
— Это ответ не мальчика, а мужа. Я сразу, как только увидел
тебя, решил — с таким можно пойти не только в разведку. Ну, — он протянул мне
широкопалую ладонь, — будем знакомы: секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов”.
Уже
дома, в общежитии, Артур до конца понял угрозу, нависшую над
факультетом.
Ему рассказали, что кроме командированных из Москвы
партийных и комсомольских идеологов в деканате побывал представитель ведомства
оборонной промышленности, по заявкам которого предстоит распределиться
выпускникам в разного рода НИИ, “почтовые ящики”, маленькие городки, названные
впоследствии Маяк, Среднеуральск, Снежинск, Озерск…
Но если антисоветский
вирус глубоко засел с головы взбунтовавшихся студентов, рассуждали в ЦК и в
отраслевом ведомстве, то какая может быть речь о дальнейшей подготовке
специалистов, тем более — допущении их на сверхсекретные советские
предприятия?
И ПОШЕЛ АРТУР ПО ГРУППАМ. Нелегкие шаги, тяжелый разговор —
только что поднявших голову, поверивших в него, поддержавших, уговаривать
отречься.
Сначала его сопровождали соглядатаи из парткома и комитета.
Убедившись, что парень проводит “правильную” работу, доверили ходить “в народ”
одному.
Опасения Немелкова насчет угрозы разгона факультета усилились
после того, как знакомые горожане, преподаватели, студенты-радисты, имевшие
приемники с коротковолновым диапазоном, клялись, что слышали по
Би-Би-Си
изложение вступления Немелкова на конференции. Правда, звучала краткая
информация, не полная стенограмма, чего так опасался
С.П. Павлов.
В
группах первого и второго курсов Артур, к своему удивлению, встретил быстрое
понимание: да, чтобы продолжить учебу, надо осудить бунтаря, а потом, взрослея,
отстаивать свою позицию более принципиально: иначе выгонят из института, и —
куда податься бедному студенту с полутора курсами незаконченного высшего.
Труднее оказалось на третьем и четвертом. Все же, поколебавшись,
призадумались.
Но когда Артур зашел вечером в комнату, где собрался актив
пятикурсников, и только заикнулся о необходимости голосовать за его исключение в
связи с антисоветской деятельностью, могучий штангист Вова Б. поднялся и от
имени и по поручению старшекурсников послал его на…
— Сам заварил кашу, а
теперь предлагаешь отречься! Да ты мужик или не мужик?
“Вот и поговори с
ними”, — опешил Немелков, держась за ручку двери и собираясь ретироваться.
Староста пятикурсников уже мягче, с ироничной улыбкой добавил:
— Артур,
мы сами можем разобраться, чего ты заслуживаешь, а чего — нет, и нечего нам
вешать лапшу на уши.
— Ты, главное, сам не волнуйся и не трухай! —
горячился Гера Гапченко, с которым Артур пел дуэтом на упийской сцене. — Я врежу
ИМ (!) на общефакультетском собрании. Они же — трусы: изъяли текст твоего
выступления, не дают никому с ним ознакомиться и требуют твоего исключения. Нет,
мы так этого не оставим!
Собрание в первичной комсомольской ячейке, в
родной студенческой группе, обернулось настоящей драмой.
Драмой совести,
дружбы, верности студенческому братству, светлым юношеским
идеалам.
Собрались в большой светлой аудитории. За окнами шел тихий снег,
и любопытные снежинки, прилипая к стеклам, будто спрашивали: ну как вы там,
братцы-студенты, держитесь?
Сидели молча, ожидая незваных, но
обязательных “гостей”. Вот и они! Секретарь факультетского бюро ВЛКСМ Виталий
Пузако и представитель парткома УПИ. Они прошли в конец аудитории и заняли места
на “камчатке”, как бы сразу давая понять: мы бдим, но лучше, если будете решать
сами.
Немногие в группе знали, что за день до собрания Леню Новикова,
комсорга группы, вызывали “на ковер” в партбюро, хотели было дать строгую
инструкцию о порядке выступлений и требовали заранее подготовленного решения,
даже подсовывали “болванку”, стандартный текст, рекомендованный и другим
группам. На что Леонид отреагировал твердо и принципиально: “Прошу не давать мне
указаний и не вмешиваться в ход собрания, не давить на нас, иначе… за
последствия не отвечаю”.
Новиков посмотрел на часы и объявил собрание
первичной организации открытым.
— Собственно, на повестке дня — один
вопрос. В соответствии с решением институтской конференции, мы должны дать
оценку поведения и взглядов товарища… нашего товарища, Артура Немелкова.
Понимаю, это будет непростым делом, тем не менее, как этого требуют в комитете,
каждый, персонально должен высказаться — “за” или “против”.
— Против
чего? — выкрикнул Афанасенко.
Поведения Афанасенко на собрании Артур
опасался больше всего: парень горячий, мог начать такую бузу, что за ним
последуют и другие. А задача спасения факультета, спасения одногруппников, их
будущего не оставляла Артура.
Когда он шел на трибуну, он рассчитывал на
два возможных последствия: или конференция большинством поддержит его призывы, и
тогда жизнь, не только в УПИ, пойдет по новой, справедливой колее, или его не
поймут, обвинят, накажут, но — его одного. Получилось по-другому — могла быть
искалечена не просто карьера, а судьба, будущее студентов, мечтавших о
полезности стране, семье, себе… И вот Валерий Афанасенко…
— Против чего?
— выкрикнул Валерий Афанасенко. — Ты, Леня, не крути вокруг да около, говори
прямо. Мы что, должны выступить против Артура? Так, что ли?
Леонид
Новиков уткнулся в лист белой бумаги.
Артур поднялся из-за аудиторного
стола, подошел к председательствующему, взял у него лист с перечнем
группы:
— Товарищи, друзья, мы собрались с вами в непростое время. Вы
знаете о событиях в Венгрии. Международная обстановка накаляется. Наши недруги
за границей только и ждут каких-нибудь провалов с нашей стороны, будь то
экономика или политика.
Я не буду повторять своего выступления на
конференции, вы его все примерно знаете. Да сейчас речь идет не о самом
выступлении и его содержании, а о моем личном поведении. Многое обдумав, я
понял, что не имел права говорить столь резкие слова в адрес руководства страны
в такой напряженный период. Нельзя лить воду на мельницу противника!
И
есть еще один аспект в пользу того, что вы должны голосовать против меня, а если
сказать точнее — за мое исключение из рядов ВЛКСМ. Вы знаете, о чем я говорю, —
о судьбе факультета. А может быть, и судьбе вуза, его студентов, замечательных в
большинстве преподавателей и ученых — они не должны страдать из-за одного
возмутителя спокойствия.
Я надеюсь, что школа Уральского политехнического
не только профессиональная кузница кадров, но институт общественной жизни. Эта
школа не пройдет для нас даром, и в будущем все вы будете не только хорошими
спецами, но и достойными гражданами нашей страны. Перефразируя Некрасова,
скажем: физтехом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!
Но и
оспорю сам себя — прежде чем стать настоящим, зрелым гражданином, надо встать на
ноги, получить желанный диплом… Я надеюсь, наши пути еще сойдутся.
А
сейчас, ребята, не подведите меня. Исходя из решения комсомольской конференции,
осудившей вредное, несвоевременное, а тем самым антисоветское выступление Артура
Авенировича Немелкова, голосуйте за исключение комсомольца Немелкова из рядов
ВЛКСМ.
Кто за? Поскольку пока я еще член ВЛКСМ, то имею право голоса…
Так, товарищ Пузако? — обратился Артур к сидевшим сзади “гостям”. — Все верно?
Итак, голосуем. Кто за исключение? Я — ЗА! Прошу отметить в протоколе для
персонального голосования.
Артур прошел на свое место, сел рядом с
Афанасенко, угрюмо глядящим за окно на спокойный, бесшумный
снегопад.
Собрание молчало. Молчал выжидательно Новиков.
Артур
положил руку на спину Афанасенко:
— Валера, ты — на “А”, первый по
списку… Ва-ле-ра, пойми, НАДО!
Не вставая, не поднимая руки, Афанасенко
выдавил, будто простонал:
— За, — и бросил голову на согнутые
локти.
Борис Денисов, спортсмен-разрядник, вышел к доске:
— За,
з-з-за иссс-ключение, — и выкинул руку — прямым ударом в сторону сидевших
партконтролеров.
Нелегко было одногруппникам Артура. Но так же, как
поддержали его на конференции, они понимали необходимость поддержки мнения
Немелкова и сегодня.
Одна за другой поднимались руки — за исключение, за
исключение, за…
И лишь у Юры Ошкина не выдержали нервы. Он вскочил,
воздел кулаки над головой и, вопя “ЗА! ЗА! ЗА!”, выскочил из
аудитории.
Лева Павлов, пропустивший было свою очередь, оказался
последним и, проголосовав, сказал:
— Артур, знай, все равно ты остаешься
для нас примером. И мы верим, ты еще будешь в рядах комсомола.
СЕКРЕТАРЬ
ГОРКОМА С ДВУМЯ ОБАЛДУЯМИ. Групповое собрание прошло. Впереди —
общефакультетское. Артур сознавал, что вопрос о его исключении из комсомола
предрешен. Заскрежетавшие было валы партийной машины снова работали на славу.
Оставалась слабая надежда — дадут окончить институт или хотя бы четвертый
курс…
Был субботний вечер. Ребята, соседи по комнате, ушли на танцульки.
Как ни тащили Артура развеяться от тяжких дум, он наотрез отказался. Хотя и
мелькнула мысль — неплохо бы встретиться с радиофаковскими подружками, с милой
Раечкой…
В дверь кто-то нахально, громко постучал. Не дожидаясь
приглашения, в комнату ввалился комендант общежития:
— Немелков, принимай
гостей, — и, оглянувшись в коридор: — Пожалуйста, товарищ Стоканов,
заходите.
Вошедший, сняв велюровую шляпу, поздоровался. За ним
по-медвежьи топтались дюжие молодцы в телогрейках, из-под которых высовывались
белые несвежие халаты. Незваный гость попросил коменданта и молодцев обождать в
коридоре.
— Артур Авенирович, мне необходимо серьезно поговорить с вами.
Прежде мы встречались лишь на конференции…
— Помню, я узнал вас, товарищ
секретарь горкома Борис…
— Да-да, Борис Александрович Стоканов… Вот и
славно, что узнали… Можно я присяду рядом?— и он уселся на скрипучую кровать,
крутя в руках темно-зеленую шляпу. — Да-а-а, товарищ Немелков, задали вы нам
работы! В моей практике подобного не случалось. Вам известно, что вопрос о вашей
судьбе решается сейчас не в УПИ, не в городских или областных органах? Он на
контроле у самого Никиты Сергеевича! Когда я услышал первые положения вашего
доклада, подумал — вот молодец, наконец-то расшевелит инертную массу. Но чем
дальше вы говорили, тем сильнее убеждался — нормальный человек в современных
условиях такого позволить не может. Я внимательно и даже, не скрою, с
восхищением слушал вас, и мне вспомнились горьковские строки из “Песни о Соколе”
и “Песни о Буревестнике”. Вы проходили эти произведения в школе. Помните —
“Рожденный ползать летать не может” или “Безумству храбрых поем мы песню”, ну,
вспоминаете, конечно?
— Конечно, помню. Но вы, Борис Александрович,
наверное, не затем пришли, чтобы мы повторяли школьную программу. Может,
чайку?..
— Нет-нет, благодарю.
Он огладил загорелую лысину и
вдруг, лукаво прищурившись, заговорил тенорком со знакомой интонацией:
—
А вы ведь, батенька, пгызывали к новой геволюции!
— Я говорил лишь о
путях совершенствования социалистической системы.
— Это вам только
кажется. — Он отбросил нелепое пародирование и заговорил серьезно: — Я не
случайно вспомнил строки классика пролетарской литературы. Вы, Немелков,
вообразили, что рождены не ползать, а летать. Сейчас-то вы хоть осознали, сколь
высоко можете взлететь? Настолько высоко, что никто не увидит, не услышит и не
вспомнит. Обратимся и к другим строкам буревестника революции — “Безумству
храбрых поем мы песню”. Песню поем, но кому, чему? Бе-зум-ству! Вот мы и подошли
к предмету нашей встречи.
Стоканов поднялся с койки и, отойдя ближе к
двери, как бы опасаясь чего-то, заговорил полушепотом, перейдя на доверительное
“ты”:
— Знаешь, прошел слух, что ты психически ненормален. Есть такого
рода заболевание, когда человек кажется вполне разумным, обладает великолепной
памятью, отлично учится, но у него начинает проявляться неадекватность в оценке
реальности. У тебя, Артур, как раз такой случай. И это очень опасно, болезнь
может прогрессировать, перейти в другие, неизлечимые стадии! Тем более у тебя в
родстве были подобные отклонения, мы получили в компетентных органах
соответствующие справки.
— К чему вы клоните, товарищ секретарь горкома?
— поднялся с койки и Немелков.
Стоканов сделал легкий, отстраняющий
прыжок в сторону двери и отчеканил:
— Во дворе стоит санитарная машина.
Вам необходимо срочное обследование! — И опять перейдя на полушепот, издали: —
Это будет спасением для тебя и для всех нас. Ну-ну, не волнуйся. Давай
по-ти-хо-нечку спускайся вниз, санитары тебе помогут. Главное — не поднимай
шуму. Я же понимаю, ты вполне нормален. Пройдешь обследование на Агафуровских, и
все удостоверятся в твоей умственной полноценности. Тебе будет легче, и нам
тоже. Давай одевайся. Пошли!
— Я знаю об этих слухах. Но мои товарищи
уверены — это пустая болтовня. Я чувствую себя вполне здоровым и не нуждаюсь ни
в чьих подтверждениях своего состояния.
— Артур Авенирович, пациентов с
вашим заболеванием не спрашивают о самооценке здоровья. Еще ни один сумасшедший
не признался, что он дурак. Я не хотел бы применять к вам насильственных мер,
так что собирайтесь, возьмите все необходимое, тапочки, зубную щетку,
ложку-кружку, паспорт и — на выход.
Тут за дверью в коридоре послышались
какой-то шум, возня, кряхтенье.
Секретарь горкома КПСС распахнул дверь и
скомандовал:
— Санитары, окажите помощь пациенту!
Скомандовал, да
тут же остолбенел. В коридоре плотной группой стояли с десяток студентов. А
санитары… Один лежал со связанными руками и ногами, другой, бледный, жался к
стене. Рослый студент с телом Давида, обтянутым застиранной тельняшкой, выступил
вперед и угрюмо пробубнил:
— Товарищ, не знаю, как вас по батюшке,
забирайте своих помощников и… — вдруг заорал: — канайте отсюда мелкой
рысью!
— Как вы смеете! Вы знаете, с кем говорите? — вскинулся секретарь
горкома КПСС. — И…и-и-и... немедленно освободите должностных лиц! Вы за это
ответите!
— Ответим-ответим! — выкрикнули из толпы, и над головами
мелькнули дубовые ножки от сломанных стульев.
Стоканов понял: назревает
новый бунт, теперь уже точно — по его вине. Опять последуют вызовы на ковер,
гневные вопли и угрозы (“Не справился с молокососами на конференции, а теперь
вновь заваливаешь совсем простое поручение! Ты нам выложишь на стол свой
партбилет!”).
Стоканов обернулся к Немелкову и, натягивая до бровей
шляпу, прошипел:
— А ты действительно того, — он покрутил пальцем у
виска. — Тебе предлагался лучший выход из создавшегося положения. Теперь пеняй
на себя!
Незваные гости ретировались. А довольные победой ребята (среди
них каким-то образом оказались и две радиофаковки) ввалились в комнату и
рассказали, как они догадались о цели визита Стоканова.
Девчонки заметили
во дворе санитарную машину с красным крестом и черную начальственную легковушку.
А когда увидели человека в зеленой шляпе и двух обалдуев, вставших на страже
возле комнаты Немелкова, поняли: приехали забирать товарища. Тут же побежали по
комнатам, заглянули в “рабочку”, прихватили ножки от сломанного стула, и вот —
результат.
На радостях включили радиолу и под “Амурские волны” пили чай с
малиновым вареньем, принесенным девочками с дружественного
радиофака.
Хроника. Ноябрь 1956 года
14 ноября. На заседании
комитета ВЛКСМ УПИ новоиспеченный секретарь Евгений Казанцев ставит на
обсуждение вопрос о пребывании в комсомоле Немелкова.
— В первичной
организации, в группе, вопрос решен, ребята поступили в соответствии с решением
конференции. Не менее сложная задача — склонить к нужному решению собрание
физтеховцев, а они затягивают со сроками. Нас торопят в райкоме, были звонки из
обкома… Предлагаю направить на конференцию представителей комитета… Формально мы
можем не ждать, есть решение первички.
Итак, предлагаю на основании
решения первичной комсомольской организации за антисоветскую, антипартийную
позицию, выразившуюся во время выступления на ХIII комсомольской конференции,
исключить студента Немелкова Артура Авенировича из рядов ВЛКСМ. Думаю, все
согласны с такой формулировкой? На всякий случай проголосуем. Так, кто за?
Едино… а вы что, девушки, не голосуете?
Галина Кузнецова (студентка
стройфака, член комитета ВЛКСМ, впоследствии — кандидат технических наук,
старший научный сотрудник НИИСа, затем — доцент строительного
факультета):
— Знаете, товарищи, мы посовещались с Риммой Викторовной и
решили, что слишком строго наказываем товарища. Ну, погорячился, наговорил
лишнего. Исправится!
— Что значит — исправится? Галя, ты была на
конференции, ты слышала речь товарища Куроедова? В конце концов, мы обязаны
учитывать и подчиняться решению конференции! Никто еще не отменял принципа
демократического централизма, записанного как в Уставе КПСС, так и в Уставе
ВЛКСМ. Так что давай определяйся… А вы что, Римма? Неужели и вам, преподавателю
общественных дисциплин, требуются какие-то дополнительные
пояснения?
Римма Викторовна Иванова (преподаватель кафедры основ
марксизма-ленинизма (позднее — истории КПСС), член комитета ВЛКСМ, кандидат
исторических наук):
— Я категорически против исключения! Я выступала на
конференции и не изменила своего мнения. На Немелкова навешивают такие
обвинения, которых он не заслуживает. Человек, который критикует недостатки
какой-либо общественной структуры…
Е. Казанцев:
— Римма, вы
забываетесь. Немелков посмел критиковать не какую-либо структуру, как вы
изволили выразиться, он подвергает сомнению принципиальные основы, определяемые
политикой партии, он перечеркивает роль райкомов и обкомов партии, он очерняет
выдающихся деятелей партии, совершавших революцию, определивших победу в Великой
Отечественной войне. А вы говорите, “какие-либо общественные
структуры”.
Римма Иванова:
— Евгений, смею утверждать, опираясь на
методологические основы диалектики, — всякое явление, в том числе общество,
предполагает борьбу противоречий. Любая общественная структура, пусть она
первоначально идеальна, требует совершенствования. Я вам задам вопрос:
существует ли прогресс истории? Вы скажете, да, существует, имея в виду переход
от одной общественной формации к другой. Но и наша формация, данная ее стадия —
не конечная станция. Прогресс истории проявляется прежде всего в прогрессе
личности человека… Его совести и совестливости, развитии творчества и
удовлетворении потребностей в творчестве, ответственности перед обществом и
перед собой, высоких нравственных принципах. Именно таков Артур
Немелков.
Е. Казанцев:
— Да-а-а, странная позиция для
преподавателя общественной кафедры. Может, вы, Римма Викторовна, верны в ваших
теоретических рассуждениях. Но сегодня, в период борьбы с международным
империализмом, мы говорим о прямом вражеском поведении студента ведущего вуза
страны!.. Ну, что же, Лена, — обратился он к девушке, ведущей протокол
заседания, — так и запишите — единогласно при двух воздержавшихся. Или вы,
уважаемые Римма и Галина, все же против исключения?
15 НОЯБРЯ. Общее
комсомольское собрание ФТФ исключает
А.А. Немелкова из комсомола. Аудитория
была заполнена не только комсомольцами, почти половину составляли направленные
для “поправки мозгов” члены КПСС.
Неужели ВСЕ они осуждали непокорного
студента? Разве не видели ПРАВДЫ, за которую молодой человек подвергался
общественной казни? Среди них были и фронтовики.
В первую очередь
расправа настигла тех, кто непосредственно поддержал Немелкова и платформу
физтеховцев. Но были и те, кто лишь неистово аплодировал ему под хрустальными
люстрами актового зала УПИ, кто лишь выкрикивал порой “Правильно!”, “Молодец,
физтеховец!”. Они, шумно одобрявшие, заметили, как после конференции вылетал из
института и из комсомола то один, то другой. Они сжались, напряглись, думали,
что их, лишь рукоплескавших, не заметили, простили, забыли. Заметили! И не
простили.
Многие, многие понимали и принимали то, о чем сказал Артур
Немелков. Право, не дураки же работали в одном из крупнейших учебных и научных
центров страны! И многие партийцы понимали, но… Допускаю, даже оголтелый
Торопень, вороном первым взлетевший на трибуну, понимал, что слышал ПРАВДУ! Но
всякое ли государство любит правду?
А Советская власть, только что кряхтя
сбросившая иго страха и произвола, не только не привыкла к полной правде, но
избегала ее, глушила, трепетала в страхе за насиженные кресла под архипартийными
“каменными жопами” (выражение Ленина о Молотове).
18 НОЯБРЯ. До
физтеховского общежития докатилась бодрящая и одновременно тревожная весть,
быстро распространившаяся по всему институту: нас подержал универ! И вправду:
для партчиновников, которым казалось, что гроза-угроза укатилась и стихла, новый
удар грома и молнии — на отчетно-выборном собрании факультета журналистики
Уральского университета не один, как в УПИ, а сразу несколько студентов
“проявили факт политического хулиганства” (так — в партийных отчетах). Они
говорили о зажиме демократии и о недовольстве советского народа существующим
строем.
Тут уж парткомычи и гебешные опричники не церемонились: сразу
несколько будущих журналистов вылетели и из комсомола, и из университета.
Постарался оправдать доверие партии и “наш” товарищ Стоканов. То, что ему не
удалось с отправкой на Агафуровские дачи, в психушку, с Артуром Немелковым, он и
его подручные с успехом провернули с бунтарями журфака.
Пока
студенты-старшекурсники Черкизов, Юрий Скоп (в будущем — известный
писатель-новомировец), Плотников и Карпович, ошарашенные столь быстрым
исключением, укладывали пожитки в свои студенческие чемоданчики, никто и не
успел заметить, как исчезли еще двое зачинщиков бунта, организаторы журналов
“Всходы” и “В поисках” Геннадий Федосеев и Юрий Хлусов.
Секретарь горкома
Стоканов, наученный горьким опытом с Немелковым, здесь поступил по-другому.
Обоих редакторов студенческих журналов просто-напросто взяли за белы рученьки
при выходе из университета на углу улиц Куйбышева и Белинского и затолкали в
санитарную машину.
А дальше?
На днях мне попал в руки материал о
том, что же было дальше.
“В журналах констатируется кризис режима,
обличается лицемерие советского официального искусства,— говорится в статье
“Литературные кружки Екатеринбурга”, — Федосеева и Хлусова исключили из
университета за “клеветнические заявления, несовместимые со званием советского
студента”. Три года Г.Е. Федосеев находился за решетками психолечебницы. Затем
ему удалось поступить на мехмат МГУ, дальнейшая его судьба — в тумане. Страшнее
— у Хлусова: три года — в тюрьме, смерть в психиатрической больнице”.
Так
и жили.
Поезд уносил на Южный Урал исключенного из комсомола и
отчисленного приказом ректора бывшего физтеховца-отличника Артура Немелкова. А
партийные страсти в УПИ и в городе не утихали.
ДОЛИНСКАЯ НИНА
ГРИГОРЬЕВНА, доцент Уральской архитектурной академии: “Я в то время была
аспиранткой. Помню, кто-то принес на кафедру листовку, которую нашли на
подоконнике в общежитии. О конференции мы были, конечно, наслышаны, а тут еще и
листовки… Я была прикрепленным преподавателем, пошла в группу с разъяснениями,
но по неопытности сказала, что кое в чем Немелков и авторы листовки правы: много
у нас бесхозяйственности. Поскольку я была по специальности материаловедом, то
посмела критиковать качество российских дорог и сказала о необходимости
применения новых прочных материалов в климатических условиях
Урала.
Наутро меня вызывает завкафедрой профессор Чубуков. Он меня любил
как способную ученицу. Он учинил мне такую взбучку! Успокаиваясь, остывая,
сказал:
— Вы молодая, у вас все впереди. Зачем вы так? Кого вы вздумали
поддерживать! Надо срочно спасать положение. В четверг — очередные политзанятия,
подготовьте доклад на тему “Борьба рабочего класса за свои права за
рубежом”.
Он еще раз по-отечески пожурил меня и отпустил готовиться к
докладу. Вдогонку бросил, что он и Николе обо всем расскажет. Николай — это мой
муж, тоже его бывший ученик.
На семинар пришла доцент кафедры
марксизма-ленинизма Кочегарова, и в ее присутствии я сделала свой доклад. Ольга
Романовна в заключительном слове похвалила меня и рекомендовала мой доклад для
заслушивания в студенческих группах и на других кафедрах. Так Михаил Филиппович
Чубуков спас меня. И Николе, спасибо, не пожаловался”.
МОКРОНОСОВ ГЕРМАН
ВИКТОРОВИЧ, доктор философских наук: Конечно, о непродуктивном руководстве
компартии, что сквозило в выступлении Немелкова, знали многие. Но им не хватило
смелости заявить об этом открыто, сказать во весь голос так, как это сделал
студент.
Немелков нарушил эту двойную мораль, господствующую в то время.
Человек призывал на собрании к одному, а сойдя с трибуны, в узком кругу,
доверительно утверждал прямо противоположное, оправдывая свое поведение тем, что
открыто говорил для начальства, а на самом деле думает и поступает
иначе.
Помню, вслед за секретарем метфака выступил “наш” зав. кафедрой
марксизма-ленинизма Мкртчан — “закаленный борец” с различного рода
“ревизионистами” и “отщепенцами”. В поддержку Немелкова, по-моему, никто из
партийных лидеров (в том числе и я) не выступил”…
Выступил, уважаемый
Герман Викторович, выступил! Забытая вами коллега Римма Викторовна Иванова.
Правда, она не была партийным лидером, но все же (!) входила в состав комитета
ВЛКСМ. Именно она последовательно и бесстрашно защищала физтеховского бунтаря. И
не только на конференции. В период его бичевания на групповых собраниях она
успевала, используя семинары, провести не менее десятка бесед со студентами:
прежде чем осуждать Немелкова и поднимать руку за его исключение, крепко
подумайте.
Часть четвертая
“Другой не будет
никогда”
НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ С ЧИТАТЕЛЕМ
ПЕРВОЕ. Подумалось, не
выглядят ли в моем повествовании деятели парткома, комитета комсомола, в том
числе те, кто не принял воззрений Немелкова, — сплошь мракобесами, противниками
всего прогрессивного, а то и тупицами?
Это было бы большой
неправдой.
Многие, очень многие, были отличными педагогами, крупными
учеными. Однако огромная, неуклюжая, грозная махина КПСС закручивала даже
порядочных людей в свои валы и шестерни. Непросто было оставаться порядочным, во
всем искренним, неподкупным.
Взять хотя бы общественную работу в составе
комитетов и факультетских бюро! Никаких особых материальных поблажек, одна
затрата личного времени и нервов. Общественная работа — работа для
общества.
ВТОРОЕ. Называть ли персонажей моей публицистической поэмы
истинными именами или заменить созвучными? Прочтут внуки и внучки про неких
Торопеня (замененная фамилия) или про Сиганенкова (истинная) — возмутятся,
запечалятся, заплачут: ну и дедушка нам достался!
Евгений Иванович
Казанцев, или, как его до сих пор любовно, по-товарищески называют те, кто
работал с ним, Женя Казанцев. Интеллигентный и доступный, душа-человек. Мне с
ним не раз пришлось общаться, когда он занимал высокий государственный пост.
Деловой, методичный, улыбчивый — наш по упийскому, уральскому духу. Именно он
вторым выступал против Немелкова, он критиковал и Мехренцева (еще одного
бескорыстного общественника) и сменил его на посту секретаря комитета ВЛКСМ. Но!
Именно он сумел развернуть полезную Родине работу, став командиром “Отряда
уральских комсомольцев” на Кустанайской целине. Он вдохновил и организовал
студентов на первые праздники “Весна УПИ”. Автор более 350 научных трудов. Его
знаниями и хлопотами подготовлено двадцать кандидатов наук!
Как прикажете
называть его в нашей публицистической поэме “Немелков”? Истинным именем —
Евгений Казанцев или выдуманным — Гений Саранский?
Махина идеологии —
скрежещущая, неуклюжая, но упорная. Безжалостно сминающая или накручивающая на
свой вал стариков, отроков, взрослых, младенцев. Сомневающихся, пытающихся
вырваться, лебезящих, прославляющих, обезумевших...
1956 год стал только
началом пробуждения. Люди продолжали верить в странный социализм, в советскую
власть. Хотя никакого социализма — свобода, духовность, справедливость, от
каждого по способности — каждому по труду, ничего этого на практике не было.
Была вывеска. Да и советской власти не было. “Вся власть Советам!” — далекий
лозунг наивных людей.
Сменялись вожди. Один за другим. А люди все ждали и
ждали настоящего. Пусть хоть батюшку-царя, хоть генерального секретаря. Лишь бы
думал о нас, указывал самую верную дорогу, а мы уж поднатужимся, мы не
подведем.
Немелков дал толчок: пробуждайтесь, думайте,
действуйте.
Становитесь личностями.
Дом встретил Артура молчанием.
Мать что-то готовила на кухне, и слышно было, не то вздыхала, не то всхлипывала.
Отец курил на балконе. Уходя на работу, все же подошел к Артуру, приобнял,
похлопал по спине:
— Держись. Как там, в книжке у Симонова: “Держись, мой
мальчик: на свете два раза не умирать…”. Вечером посидим, подумаем.
Лады?
Артур согласно кивнул. Непокорные волосы упали на лоб. Прижал
голову к отцовскому плечу:
— Папа, прости.
Артуру позарез
хотелось, необходимо было с кем-то поговорить, отвести душу. В УПИ остались
друзья, единомышленники, Леня Новиков, Жора Писчасов, кружковцы, Рая, а здесь…
Ну, конечно же, — к Николаичу!
Артур зашел в магазин, взял пару бутылок
наливки со смешным названием “Спотыкач”. Он знал пристрастия своего старого,
мудрого товарища. Поначалу казалось странным: Николай Николаевич такие мытарства
прошел, и по душе ему вроде бы должно быть простое хлебное русское вино —
водочка. Ан, нет! Николаич предпочитал сладкие вина. Видно, наскучался на нарах
да на лесоповале по вкусной и здоровой пище…
— Артурчик, дружище, заходи!
Садись ближе к огню, покалякаем. В доме совсем слабое отопление, вот и устроил
из ржавой бочки буржуйку-выручалку. Боюсь, чтоб пожарные не засекли. Проходи,
садись… Дай погляжу на тебя, полюбуюсь… Похудел, повзрослел, посуровел. Главное,
не впадай в уныние — первая заповедь! Далее — не бойся, не верь, не проси, как
говорят зэки, правило не ахти, но что-то в нем есть. Ты пережил взлет. Опасайся
падения! Держись за облака…
— Николай Николаевич, — Артур выставил
бутылки на стол, — так вы, стало быть, в курсе? Как, откуда?
Николай
Николаевич молча кивнул в угол, где стоял, казалось, обыкновенный тарный ящик.
На самом деле внутри был вмонтирован коротковолновый приемник, собранный
заводскими умельцами из запасных радиодеталей. И преподнесенный
братцами-собутыльниками на юбилей Николаичу.
Выпили по первой. Помолчали.
Взбодрились. И — пошел задушевный разговор.
— Ты, Артур, крепко рисковал.
И сейчас — под прицелом. Говоришь, сам уговаривал исключить тебя из
комсы?
— Считаете, смалодушничал? Может, и был момент, но я спасал ребят,
товарищей… Вы меня осуждаете?
— Не оправдывайся, Артур, не таких ломали.
Да и сам я не выдержал, когда мне на допросе вставили катетер в член и стали
вливать литрами воду. Не суди, говорят, да не судим будешь. Ты еще молод.
Главное, ты произнес ПРАВДУ. А если бы не сделал этого, всю жизнь висело бы над
тобой: не смог, не сделал, не состоялся. А ты, мой друг, СОСТОЯЛСЯ. Не знаю ни
я, ни ты, одному Господу ведомо, как сложится судьба, заберут тебя, вышлют в
казахстанские степи… А может, замнут дело, выучишься на инженера, заведешь
семью, будешь клепать детишек, в общем, как все... Но ты совершил поступок.
Значит, не напрасно пришел в этот несовершенный мир. За тобой пойдут другие.
Слова твои — только спичка, а костер не сразу, но разгорится. Наливай, брат,
выпьем за тебя…
— Нет, Николай Николаич, давай… давайте…
— Артур,
не тушуйся, называй меня на ты, так легче будет обоим. И мы с тобой теперь,
можно сказать, одной веревкой вязаны. Хотя не дай Бог ни тебе, ни твоим
товарищам пройти по моему этапу.
— Спасибо, Николаич, за вас… за тебя!
Давно хотел спросить, за что припаяли тебе страшную 58-ю?
— За язык. Как
и многим, кто прошел со мной большие срока. Вернее, за мысли, которые слетали с
языка, когда я преподавал в техникуме. Я был знаком по двум-трем публикациям с
идеями Чижевского. Не слыхал? Чижевский выдвинул гипотезу о том, что самые
главные катаклизмы на Земле — войны, крупные социальные перевороты, революции —
совершаются с определенной цикличностью и зависят от космических бурь, от
активности солнца, от парада планет… Ну, об этом можно долго рассказывать. В
принципе, понятно?
— В принципе — да. Но это что же получается: если
где-то на Плутоне, на Солнце, в галактических далях было бы спокойно, то и наша
Октябрьская революция не совершилась?
— Вот-вот, ты рассуждаешь точно так
же, как мои следователи и те догматики-доброжелатели, которые накатали на меня
донос: дескать, такой-сякой пропагандирует лженауку Чижевского, отрицающего
марксистскую диалектику и законы развития человеческого общества. Да ничего ни
я, ни мой учитель Чижевский не отрицаем! Кстати, не было бы счастья, да
несчастье помогло: там, в северной глухомани, в лагерях, мне довелось
встретиться с такими умнейшими и интеллигентными людьми, и представь, с самим
Александром Леонидовичем! Мне, наверное, не дожить, а ты еще услышишь о
профессоре Чижевском как основателе новой науки — космической биологии. Так вот,
ученый проанализировал социальные явления на земле за многие тысячелетия и вывел
определенные закономерности. Не надо только вульгарно понимать, что произошла
некая вспышка на солнце, и пожалуйста — переворот 25 октября 1917 года. Все
сложнее. Революция — итог протяженного наслоения событий не только двадцатого
века, но более ранних эпох, не с Петра ли все накапливалось… И — совпало!
“Терновый венок революций” совмещается-таки с цикличным экстремумом в дальних
мирах.
— Так можно дойти и до божественного истолкования истории
человечества?
— Ты прав! Называй как угодно — Бог, Абсолютная Идея,
Ноосфера… Вот меня, тогда еще молодого преподавателя, и обвинили в вульгарном
понимании истории, в идеализме, суеверии и, надо же было подвести под статью, —
в умышленном внедрении в головы учащихся вредного буржуазного учения,
противоречащего историческому материализму и идеям марксизма-ленинизма. Немало?
Десять лет без права переписки!.. Да каких замечательных людей встречал! Толя
Клещенко, биолог, поэт… Хочешь, покажу его творение?
Николай Николаевич
сунул руку за кусок оборванных обоев и достал оттуда сложенный вчетверо
желтоватый листок.
— На, читай! Только — ни-ко-му! Понял — молчок! Все
эти решения съезда и прочее, ничему не верю. Ты на себе почувствовал? Где она,
обещанная оттепель? Читай, Артур! Вслух читай! Знай, что и в наше время были
люди…
Артур развернул первый листок. Жидкими бледно-серыми чернилами было
выведено “Канал имени Сталина”, дальше — наклонным летящим почерком —
стихотворение.
Ржавой проволокой колючей
Ты опутал мою страну.
Эй, упырь!
Хоть уж тех не мучай,
Кто, умильно точа слюну,
Свет
готов перепутать с тьмою,
Веря свято в твое вранье.
Над Сибирью, над
Колымою
Вьется тучами воронье.
Конвоиры, сдвигая брови,
Щурят глаз,
чтоб стрелять ловчей…
Ты еще не разбух от крови?
Ты еще в тишине ночей
Не балуешься люминалом
И не просишь, чтоб свет зажгли?
Спи спокойно.
Мы — по каналам
И по трассам легли навалом,
Рук не выпростав из
земли.
О тебе вспомнят наши дети,
Мы за славой твоей стоим,
Раз
каналы и трассы эти
Будут именем звать твоим.
Под стихотворением
помечено карандашом: “1939, Ураллаг”.
— Да-а-а! — только и смог протянуть
Артур. — Значит, не все беспрекословно верили и преклонялись? Написано в 39-м!
Кто он, Анатолий Клещенко? Жив?
— Уцелел! Этапы развели нас по разным
зонам… Недавно получил о него письмо из Питера. Освободился, ждет, как и я,
полной реабилитации. Собирается вновь на Северный Урал, в Сибирь, он — геофизик,
думаю, и у нас погостит, познакомлю вас, двух героев нашего времени.
—
Николай Николаич, ты чем питаешься? Погляжу, так хлебом единым? — Артур отрезал
от ржаной буханки два куска, густо намазал баклажанной икрой, сверху украсил
колечками лука. — Отличный закусон! Чем жив, спрашиваю? На работу
устроился?
— Поработал сторожем на стройке. Я бы и в каменщики подался,
но у меня копыта отморожены, чуть не по полступни отхватили в лагерной
больничке. Ноги мерзнут, и стоять долго не могу. Снова податься в преподаватели,
хотя бы в ремесленное училище? Но у меня утрачен диплом, изъяли при обыске. Как
его восстановишь, сохранился ли архив в тех краях, где полыхала война? Да и
примут ли на преподавательскую работу? След неблагонадежного остался в органах.
Был в райсобесе, написал заявление, обещали рассмотреть и добавить пенсию. Вот
тебе и зэковская заповедь “не проси”. Приходится нарушать. А хлебушко, пшенку,
колбасу “собачья радость” покупаю, полевой супчик варганю. Без горячей пищи не
живу. Соседи-собутыльники приносят угощенье! Ты намазывай-намазывай икорку-то,
не хуже паюсной! Загляни-ка в тумбочку, там, кажется, настоялась
рябиновка.
Артур открыл дверцу, и на него глянул из сумрака, из глубины
верхней полки, лик Спасителя. Большая икона, изображавшая Иисуса Христа, похожая
на ту, которую мать хранила в сундуке как память о бабушке Артура.
Артур
прихватил с нижней полки бутылек с оранжевой рябиновкой и, не прикрывая
тумбочки, вопросительно взглянул на Николая Николаевича.
— Ты хочешь
спросить?.. Верю ли я? Да. Да! Да…
— Я думал, что ты, физик, —
атеист.
— Атеизм, Артур, это научно обоснованная безнравственность. Ты
хотя бы читал Евангелие? В вузах вам втюривают кодекс строителя коммунизма и не
задумываются, откуда истоки этих заповедей.
— Так вы верующий или
нет?
— Это вопрос сугубо личный, более того — необъяснимый. Есть вещи и
понятия, которые не поддаются словесной расшифровке. Что такое Разум? Совесть?
Что такое Любовь? Все знают, что существует любовь, но никто не может сказать в
точности, что это за чувство. К религии, к Богу мой путь был непрост. Но к Нему,
— Николай Николаевич склонил голову к раскрытой дверце, — я пришел на исходе
лагерной жизни. И мне тогда уже было непонятным: почему большевики отрицают
Первого Коммуниста?
— Вы ничего не путаете? Еще скажете — члена ЦК
КПСС…
Голубые глаза Н.Н. вдруг потемнели, и он так взглянул на молодого
друга, что Артура аж передернуло.
— Я не думал, что у тебя так серьезно.
Прости, Николаич, за шутку.
— Бог простит… Какой же ты еще наивный,
Артур! Ты нашел мужество и смелость стать первым здесь, в середине Урала, на
этапе выздоровления общества. Ты взошел на трибуну, под тобой гудел зал, и
большинство, слава Богу, тебя поддержало. Но задумывался ли ты, каково было Ему,
воистину первому, когда за день до Голгофы толпа неразумных вопила: “Распни
Его!”
Икона была темная, позолота почти полностью облупилась, лишь
местами желтея пятнами, похожими на осенние листья. И только лик Спасителя со
скорбной улыбкой, да благословляющая рука, да раскрытая Книга — все это чудом
сохранилось через века и, казалось, только вчера вышло из под тонкой кисти
иконописца.
— Каждый человек, если он действительно человек, должен не
только понять Его подвиг, но и принять сораспятье. Твой час настал,
Артур.
Не могли знать ни Артур Немелков, ни Николай Николаевич
Мартыненко, что в это самое время другой упийский студент экономфака, Отто
Новожилов, писал стихотворение, можно сказать, по теме беседы двух товарищей,
сидевших в Челябинске за дощатым столом у потрескивающей угольями буржуйки.
Стихотворение называлось “Граф Монте-Кристо”.
Было все — и донос, и
арест, и подлог —
Налитые плоды подлой зависти.
И гранитный нависший
сырой потолок
Зачеркнул все доказательства.
Сколько времени — думать!
Протяжные дни,
Словно капли, мучительно падают.
Но напрасно враги
торжествуют — они
Не убили ни сердца, ни памяти.
Будет год — не сдержать
установки властей,
Благородного гнева раскаты,
По числу негодяев — число
смертей,
И никто не уйдет от расплаты!
Вы забыли, хранители тепленьких
мест?
Он копает землю руками.
От усталости падая, шепчет: “Месть…”
И
трещиной делится камень.
И свобода — явилась! Как ветер в лицо.
(По
сюжету она обязательна.)
Что случилось с героем? Где кровь
подлецов?
Поднимаются брови писателя.
Наше время такое, товарищ Дюма,
Монте-Кристо и я не пойму.
Двадцать лет его истязала тюрьма!
Он не
мстит. Хоть и есть кому.
Пострадавший безвинно, “по воле небес”,
Монте-Кристо печальною песнею,
Задыхаясь от кашля, плетется в
собес
Хлопотать инвалидную пенсию.
— Николаич, ты мудрый человек,
скажи, почему так взвились эти партийные бюрократы против ПРАВДЫ? Ведь я не
призывал к свержению советской власти, я хотел как лучше… Неужели так сильно то,
что насаждал Сталин?
— Артур, они дрожат за свои тепленькие места, они
почувствовали, что под ними зашатались их большие кресла и маленькие креслица.
Конечно, есть и долбоебы, которые уперлись в уставы-инструкции и дальше них
ничего не видят. А то, что касается Сталина… Давай больше об этом не будем. — Он
оглянулся на дверь, вкинул брови, расширил глаза, как будто в дверь входил Сам,
потом подкинул в печь сучковатую чурку, похожую на Буратино, которую тут же
жадно облизало пламя, и продолжил: — Насчет Сталина еще много будут рассуждать.
Ты доживешь до того времени, когда кое-кто о нем возмечтает. Не как о тиране, а
как о властелине Империи. Да… Он ее укреплял, от его звериного правления она и
рассыплется. Трудно и долго будет возрождаться сильное и справедливое
государство… Это неоднозначная личность. И давай не будем о нем, — он снова
оглянулся на дверь и уставился в темный угол потолка.
— Ну, что же, не
хочешь — не будем. Только ответь на один вопрос, всего на один: ты, прошедший
через колючую проволоку и бараки лагерей, ты — свидетель глумления над народом и
его истреблением, ты что, не осуждаешь Сталина и сталинщину? Или ты до сих пор
боишься его?
— Артур, ты обещал задать один вопрос. Я тебе сказал, при
мне — ни слова о Сталине! — И он грозно пристукнул палкой так, что половица
вздрогнула, а в подполе вскрикнула испуганная крыса.
Успокоившись, Н.Н.
разлил остатки сладкого, тягучего вина по граненым стаканам:
— На прошлой
неделе у меня побывал Боря из Магнитки, тоже на третью ногу опирается. Было что
вспомнить. Так вот, он точно такого же мнения о Сталине: не осуждать и не
восхвалять, пусть потомки разбираются. Прочитал мне новую поэму. Молодец! Не
угас его талант и на сталинском “курорте” в Воркуте.
— Какой Боря? Не
путаешь? У тебя же друг Толя Клещенко.
— Толя — само собой. А это — Боря!
Борис Александрович Ручьев. Не слыхал? Ну, так еще услышишь!
Неожиданной
приятностью для Артура стало заказное письмо. Обрадовался: от Раи Литовченко, из
Свердловска? Нет, из Уфы. Расписался в квитанции, вскрыл конверт. “Дорогой
товарищ по пионерскому лагерю! Наверное, не вспоминаешь голодный бунт и свою
старшую вожатую… Ты поймешь меня правильно. Я пишу о юношеском увлечении. Может
быть, это была моя первая любовь? Сейчас у меня — семья, дети. Но я никогда не
забывала председателя отряда Артура Немелкова. Я видела в тебе ЛИЧНОСТЬ. Думала,
именно такие становятся истинными борцами. Как Спартак.
Сестра моего
супруга — аспирантка УПИ. Она рассказала в подробностях об осенних событиях и о
твоем выступлении. Артур, жму твою руку. Держись. Знай, что у тебя есть
единомышленники не только среди студентов УПИ. На семинарах в Уфимском
авиационном институте, где я работаю, обязательно расскажу, уже рассказываю,
студентам о тебе. Конечно, в определенных рамках… Будет настроение, напиши.
Обязательно напиши! Буду ждать. Лидия Волегова”.
И начались трудовые
мытарства Немелкова. Устроился было на ЧТЗ в цех пусковых моторов. И даже
должность приличную дали — сменный мастер участка. Не прошло и месяца, не
закончился испытательный срок — с треском выгнали. “Ты нам не нужен! —
отчеканили в отделе кадров. — Или увольняйся по собственному желанию, или
вылетишь за профнепригодность и ротозейство при выпуске бракованной продукции!
Мы тебе не няньки, чтобы воспитывать твою политическую сознательность”.
В
тот же день, вечером, все и прояснилось. Усталый и постаревший отец сказал за
ужином:
— Сегодня нам зачитали закрытое письмо ЦК… Ты понял — ЗАКРЫТОЕ!
Так что я не имею права посвящать тебя в содержание. Скажу только, что в нем
партия обращает внимание на недопустимость антипартийных выступлений, которые
были отмечены в последнее время в ряде НИИ и в студенческой среде.
Он
помолчал, как бы размышляя, добавлять что-то к сказанному в секретном письме или
нет. Все же решился:
— Есть там, сынок, и твоя
фамилия.
Открывались со стоном и закрывались, взвизгнув, тяжелые чужие
дубовые двери заводских отделов кадров, райкома, горкома, Челябинского обкома:
дайте работу, используйте мои вузовские знания, пусть и неполные, пошлите на
любую черновую работу.
Наконец — о, чудо! — видимо, кто-то всесильный
сжалился и дал указание: принять на работу. Слесарем? Учеником слесаря? Пойдет!
Лишь бы не сидеть сложа руки на шее родителей. Лишь бы применить свои силы и ум
для пользы. Да и денежек заработать не мешает.
Друзья зазывают встретить
студенческой группой Новый год. И Рая… милая Раечка, где ты, откликнись. На
третий конверт наклеивал Артур красивую марку, отправлял не простое письмо,
заказное — по знакомому адресу Втузгородка. Ни ответа ни привета! Испугалась,
отреклась, разочаровалась?
Не сам ли виноват? Зачем было оставлять ей,
засунув в дверь, записку: “Прости, прощай, прощай, моя родная”. Набросал наспех
слова из романса Петра Лещенко, она любила, когда он, Артур, пел, подражая
“пластиночному гению”. Получилось неуклюже и пошловато. Лучше было — цитатой из
Пушкина: “Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог…” Тоже — не то!
Не мог найти собственных простых, искренних слов? С объяснением: не может
рисковать ее судьбой, не зная о своем будущем.
И — молнией! — мысль: его
письма просто-напросто оседают в ящиках или сейфах всем известного
учреждения?
Как-то, придя с работы после бессонной ночи (пришлось
вкалывать в третью смену), Артур встал под душ. Острые струи неразогревшейся
воды, покалывая спину и плечи, бодрили, прогоняли сон.
В дверь постучали.
В чем дело? Обмотавшись полотенцем, выглянул в коридор. На табуретке сидела
мать, вся бледная, схватившись за сердце.
Двое парней нерешительно
топтались, протягивая Артуру лист бумаги: “Распишитесь!” Наскоро накинув одежду,
Артур первым делом бросился на кухню к аптечке, накапал в стакан
валерьянки.
— Мама, выпей, сейчас я тебе помогу… Кто, кто вы, в чем
дело?
— Мы из военкомата, — синхронно отчеканили парни.
Один был в
мичманке с “крабом”, другой, худющий, комкал сконфуженно шапку в руках, уши у
него торчали в стороны на пять сантиметров.
— Немелков? Тебе, товарищ
Немелков, необходимо явиться в райвоенкомат для постановки на учет и прохождения
медкомиссии, — по-военному доложил “флотский”.
— Мы, того… разносим
повестки, а тетенька чего-то напужалась,— добавил ушастик.
— Ой,
Артурчик, ох, как я напугалась! Думала, за тобой эти, ну, сам понимаешь, — она
пыталась улыбнуться. — Оказывается — хорошие ребятки, из военкомата, может, их
чайком угостить?
— Так, в корешке расписался? Порядок, — сказал тот что в
мичманке. — В повестке указано, когда и во сколько явиться. Давай, братишка, мы
тоже призывники. Может, в одну часть угадаем. Эх, мне бы в морскую пехоту или
матросом на крейсер! Пошли, Ушастик, у нас еще двадцать штук разносить, не до
чая.
— Мамочка, ты уж давай как-то не пугай ни себя, ни меня. Видишь, все
в порядке, обычная повестка, отслужу в Красной Армии, восстановлюсь в институте.
— Он взял мать за плечи и усадил в кресло. — Ну, как, отпустило? Пойду —
домоюсь.
Только Артур пустил душ, только струи весело защекотали его
предплечья, грудь, живот, только он расслабился, согреваясь, как вдруг погас
свет.
— Мам, что случилось? — выглянул Артур из душа.
— Не знаю,
сынок, сейчас я зажгу свечу.
В дверь вновь робко постучали. Может,
рассыльные военкомата вернулись, чего-то позабыли? А может… Мать открыла дверь и
подняла над головой свечу.
— Артур, это — к тебе.
Да кто там
опять? Артур, недовольно бурча, натянул трусы и шаровары, накинул на плечи
полотенце, вышел с мокрыми волосами в коридор…
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.
НЕМЕЛКОВА. Неспавший, после ночной смены, с взлохмаченными волосами, я застыл на
месте. Передо мной в дверном проеме, как в багетной раме, стоял, освещаемый
золотистым светом свечи, АНГЕЛ с небесного цвета лучистыми глазами.
Очаровательно улыбаясь, Ангел поинтересовался:
— Можно к вам?
—
Мама, это — Раечка!
ВСТРЕЧИ-РАЗГОВОРЫ. Полвека минуло. Раннее
утро. “Сиреневый туман над нам проплывает”.
Иду по пустынным, едва
просыпающимся улицам Челябинска. С поезда — по указанному адресу. Не символично
ли: кумир моей юности живет на площади с именем — РЕВОЛЮЦИЯ?
Вспомнился
“боксовский” плакат “Революция не кончается…”. Две революции 1917-го, революция
1956-го, революция 1991-го… Сколько их еще впереди? И все — от имени
народа!
Тщательно чистится-прибирается главная площадь. Татарки
высаживают в клумбы настурцию, ноготки, запашистый табак, анютины глазки. Как и
в прежние годы, чернеет на фоне утренней шафрановой зари чугунный Ленин, вознеся
руку по диагонали, обещая лучезарное будущее. Без малого век зовет и
обещает…
Едва успеваю уклониться от бьющего злой струей, шипящего,
бегающего змеей шланга, оставленного дворником: “Пшел
похмелиться”.
Издали замечаю высокую фигуру в темном парадном костюме, в
галстуке, в крупных очках… Мы сближаемся и, даже не назвав друг друга по имени,
догадываемся, кто есть кто… Впрочем, согласитесь, было бы смешно, если бы герой
повести не узнал своего автора, и наоборот, если б сочинитель не угадал в
приближающемся придуманного и одновременно невыдуманного героя. Тем более герой
был задуман еще до автора — ВРЕМЕНЕМ И СУДЬБОЙ.
А вот и Раечка! Уже в
квартире Немелковых на третьем этаже старого добротного дома в стиле
“сталинского вампира”. Ну, какая же Раечка? Та комсомолка Р. Литовченко остается
на страницах моей политехнической поэмы. А передо мной — Раиса Петровна
Немелкова, жена, мать и бабушка. Но глаза! Глаза светятся лучистой улыбкой,
нашей, упийской, втузгородской. И Артур, сбросив пиджак, попросту,
по-студенчески, зазывает на кухоньку испить с дороги чайку.
— У самовара
я и моя Маша… — напевает. — Помнишь мотивчик?
— …А под столом законная
жена, — подхватываю я.
— Как-как? — белозубо смеется Артур, и его седые
волосы подпрыгивают в такт заразительному смеху. — В “БОКСе” все переиначат на
свой лад! А нам с Гапченко когда-то запретили петь эту песенку. Лещенко, видите
ли, — белоэмигрантский репертуар. Похвастаю, у меня — уникальная коллекция этого
русского шансонье, подарил один мудрый чудак.
— Николай
Николаевич?
— Ты и о нем знаешь?
И была еще вечерняя встреча.
Вдвоем, как сейчас выражаются, за рюмкой чая. И разговор по душам. Долгий,
неторопливый, с отклонениями от главной темы, с воспоминаниями о золотых
денечках студенческой юности. И если пересказать нашу беседу, то повествование
разрастется до неприличных размеров.
— …Но вот чья судьба остается
тайной, так той отважной особы, которая тебя поддержала на конференции —
единственная из преподавателей, да еще с какой кафедры! С кафедры основ
марксизма-ленинизма!
— Римма Викторовна Иванова?
— Она самая! Где
она? Что с ней? Может, ты о ней что-нибудь слышал?
— Не
приходилось.
КТО ВЫ, РИММА ИВАНОВА? Очень мне хотелось встретиться с ней.
Порасспрашивать, вставить ее слово-воспоминание в повествование о
шестидесятниках. Увы!..
Бывший завкафедрой, профессор Мокроносов, долго
разглядывал групповую фотографию в книге, посвященной юбилею кафедры.
—
Вот она! — обрадовался. — В центре, полненькая, в очках!
Однако появился
современный дотошный детектив — Интернет! Вместе с сыном плутаем по мировой
паутине. Так, историк Ишмухаметова… Нет ответа. Крымские ученые-историки…
Бесполезно. Преподаватель истории КПСС Иванова… И тут — пусто! Набирай, говорю
сыну, просто РИММА ВИКТОРОВНА ИВАНОВА. Ура-а-а! На экране — информация, фрагмент
книги некоего Ильи Войтовецкого с главной героиней — Риммой Викторовной
Ивановой!
Почему “некоего”? Я же заочно знаком с Ильей, печатались в
одном сборнике стихов “Втузгородок”. Он и в “БОКСе” успел поработать. Вот так
успех, нашлась-таки Римма Виктровна. Хотя бы так, в воспоминаниях бывшего
политехника. Запущенный в Интернет фрагмент повести — автобиографичен: множество
знакомых имен.
Думаю, наконец-то получу разгадку гражданской отваги Риммы
Ивановой во время достопамятных событий и узнаю о ее дальнейшей судьбе: ведь
такие поступки бдительные органы не прощали.
Читаю текст Войтовецкого, и
загадочный клубок “Р.В.И.” совсем запутался. И я пришел в полное смятение.
Итак…
ИЛЬЯ ВОЙТОВЕЦКИЙ, учился на металлургическом факультете УПИ,
окончил Челябинский политехнический институт, работал в заводских лабораториях,
с 1971 года живет в Израиле. Автор сборника стихов “Такая тетрадь” и повести
“Вечный судный день”:
“….Приближался день заседания комитета ВЛКСМ, в
повестке дня которого значилось рассмотрение моего персонального
дела.
Недели за три до этого в моей биографии возник персонаж. Звали его
Риммой Викторовной Ивановой. Был этот персонаж преподавателем основ
марксизма-ленинизма и членом комитета комсомола, даже одним из заместителей
секретаря.
…О первом ее внезапном визите в нашу обитель рассказал мне
Сашка Фискинд.
— Тебе повезло, — сказал Сашка Фискинд. — Иди к ней. Она
просила. Хочет тебя, обормота, видеть. И вот еще, — наставительным тоном добавил
Сашка, — ничего не предпринимай, не согласовав с Ивановой. Что бы ни
посоветовали, слушай только ее. Она лучше знает, что и как.
…Римма
Викторовна жила во втором студенческом корпусе. Я мчался, словно на
международных соревнованиях… Там, на финише, я должен встретиться с женщиной,
которая хочет мне помочь, которая выслушает меня, сразу поймет и сумеет все
объяснить другим.
…Прав Сашка Фискинд: мне повезло.
…Говорят, что
во сне летают, когда растут.
Я уже не расту, но — летаю. Я летаю с Риммой
Викторовной. Не во сне, а по-правдашнему, по-всамделишному. Прихожу к ней
вечером. Она угощает меня чаем с вареньем, а я смотрю на нее и — отрываюсь от
стула, парю — сначала в комнате, потом над Втузгородком и — над всем большим
городом...
— Ваши друзья написали письмо. В вашу защиту. Подписалось
больше восьмидесяти человек. Хорошо, что много неевреев... Давайте спускаться,
пора, скоро муж вернется…
…Комитет ВЛКСМ. Приоткрывается дверь, называют
мою фамилию: “Войдите!”
У стены под портретом Ленина сидит Женя Казанцев,
секретарь комитета. В комнате много народу, с большинством я знаком: студенты,
аспиранты — члены комитета. Будущие партийные работники, командиры производства,
передовой отряд советского народа. Говорят по очереди. Все убежденно высказывают
свои личные, но очень одинаковые мнения. Комитетская дама передает точку зрения
Риммы Викторовны, которая, к сожалению, плохо себя чувствует и присутствовать на
заседании не может. Римма Викторовна по ее, дамы, словам, считает меня злостным
националистом (“Вот брешет! — думаю про даму. — Воспользовались, гады,
случаем”.) и рекомендует очистить от меня ряды Ленинского союза
молодежи…
— Она всех заложила, — сказал Сашка Фискинд. — Поперли из
института всех, кто тебя поддерживал. Под разными предлогами. Меня тоже. Даже ее
коллегу по кафедре. Она про всех все знала.
…С тех пор я больше не летаю.
Не хочется. Повзрослел”.
Вот так материал! Вот так добавление к моему
повествованию и к портретам шестидесятников! Ай-я-яй! Охо-хо! Это что же
получается? Одна из главных положительных фигур моей поэмы об УПИ оказывается не
просто притворщицей, но — настоящим провокатором?
И, воспользовавшись
электронным адресом И. Войтовецкого, направил письмо в Землю Обетованную.
Высыпаю из мешка сомнений главные: может быть, повесть Войтовецкого —
художественный вымысел, может быть, Р.В.И. мстила Илье за их совместные
“лирические полеты” (как может мстить женщина за прерванную любовь), может,
неявка Риммы Викторовны в комитет и ее заочное заявление — чей-то
наговор?
Чудное изобретение — email! Это вам не голубиная почта, не
ямщицкая, не железнодорожная и авиа, даже не срочнейшая, с дипкурьером. Через
несколько часов (в тот же день отправки!) на экране высветился ответ от Ильи
Войтовецкого.
“Здравствуйте, Владимир Блинов! Человек, как вы знаете,
организация сложная, запутанная, неоднозначная. Я, ничего не придумывая, написал
о Римме Викторовне то, что знал, ничего не добавляя, не убавляя и не домысливая.
Знаю также, что в 1956–1957 годах в комитете ВЛКСМ рассматривались десятки
персональных дел, заканчивающихся исключением из комсомола. И если не во всех
случаях, то в подавляющем большинстве Р.В. играла ту же провокаторскую роль, что
и в моем. Опытная, обаятельная и коварная. Может быть, впоследствии заговорила
совесть, такое тоже бывало. В общем, все, конечно, неоднозначно.
Никаких
поводов, никакого “основания мстить за лирические “полеты” у нее быть не могло,
так как эти виртуальные полеты были никак не лирические. Р.В. была в ту нелегкую
пору симпатична мне по-человечески, без всякой “лирики”
Правду можно
узнать только из архивов КГБ, к которым у нас с вами доступа никогда не
будет”.
Вот так. Все четко, лаконично, откровенно. Никаких домыслов,
никакой лирики. Свидетельствует человек, который сам угодил под молох массовых
политических исключений из Союза молодежи и из УПИ осенью пятьдесят
шестого.
И все же сомнения не оставляли меня. Ах, разыскать бы саму
Р.В.И.! В Крыму бывший уралец, профессор Владимир Николаевич Николко, по моей
просьбе переспросил многих “доцентов с кандидатами” Симферопольского
университета. Увы и ах… Правда, оставались Керчь, Феодосия… Выяснилось, что
после татарина Ишмухаметова Р.В. вышла замуж за еврея. Не под Хайфой ли нынче
она, рядом с нашим Ильей Войтовецким?
Пребывая в размышлениях,
посоветовавшись с друзьями (которые учились у нее и очень тепло отзываются до
сих пор!) о своей версии преображения доцента Ивановой, выпустил я нового
“электронного голубя” в сторону Ильи Войтовецкого:
“Илья, спасибо за
скорый ответ на мое письмо. Вы правы, человек — организация сложная,
неоднозначная. И все же, признаюсь, в отношении Р.В.И. остаются сомнения.
Неужели такое артистическое притворство и черное провокаторство?
Может
быть, домысливаю, Р.В.И. прижали, запугали, принудили? Особенно после
октябрьских событий 1956 года в УПИ?
Неужели — если Р.В.И. была неким
стукачом — она решилась бы выступать на ХIII конференции в защиту Немелкова?
ОДНА! Из преподавательского состава. И какой пример она подавала сидящим в зале
студентам! Не только им.
Затем — она же и Галина Кузнецова (студентка
стройфака) не поддержали Е. Казанцева и на заседании комитета проголосовали
против исключения Немелкова (как раз в те дни, когда Вы с Р.В.
“летали”).
И еще: неужели она стала бы инициатором КОЛЛЕКТИВНОГО письма в
Вашу защиту? Кагебешники как огня боялись заговора. В этом случае они полетели
бы со своих должностей: недоглядели! А тут после “Дела Немелкова” и платформы
физтеховцев — новый МАССОВЫЙ протест! И курирует его… преподаватель основ
марксизма-ленинизма!..
Может быть, здесь и таится разгадка? Кто-то донес,
что она организует кампанию в Вашу защиту. Вас, как вы пишете, в комнате жило 13
человек, была еще студенческая группа, факультет. И в органах, конечно, стало
известно и о коллективном письме, и о деятельности Риммы Викторовны. Тем более
она уже числилась в списке неблагонадежных. Вот тут-то ее и обработали! Она
сдалась.
Кстати, откуда Сашке Фискинду было знать, что именно ОНА “всех
заложила”?
…Наш общий товарищ Герман Дробиз удивлен и поражен
метаморфозами Риммы Викторовны: многие студенты ценили и обожали ее за
свободомыслие и критичность”.
— Такая, брат, история. Теперь, Артур
Авенирович, и ты знаком с загадкой Р.В.И. Мне представлялось, что ты что-нибудь
знаешь о ее судьбе.
— К сожалению, ни-че-го. После исключения я был
практически оторван от УПИ, правда, поддерживал переписку с несколькими ребятами
из группы. Иванову помню только на трибуне актового зала. Я не был знаком с ней,
видел пару раз в комитете… Конечно, ее краткое слово было для меня крепкой
поддержкой. А в президиуме она вызвала не меньшее смятение, чем мое выступление.
Я видел это! Еще бы — смутьяна поддержала ученая, преподаватель, член
институтского комитета!
— Да, а теперь выявляются такие
обстоятельства…
— Ты раскопал столько лиц, фактов и подробностей! О
некоторых слышу впервые. Но Римма Викторовна… Как говорил Станиславский: не
ве-рю! Не могу представить, это была железная леди.
Мы сидели,
задумавшись. Каждый о своем, а может — об общем. Кажется, я даже ненадолго
закемарил. Иначе откуда бы возник такой пейзаж: Широкореченское кладбище,
большая стела из черного уральского габбро, а на ней — сияющие на солнце бронзой
имена: Георгий Писчасов, Николай Хрященко, Андрей Вознесенский, Леонид Новиков,
Алексей Федоров, Наталья Блюменкранц, Кока Пальцев, Борис Ельцин, Герман Дробиз,
Римма Иванова-Ишмухаметова, Римма Казакова, Семен Недобейко, Виталий Лоскутов
(архитектор), Олег Пчелкин, Василий Аксенов, Евг. Евтушенко, В.Д. Дудинцев,
Алексей Козлов (саксофон), Отто Новожилов, Анатолий Гладилин, Юрий Лобанцев,
Владимир Житенев... Еще и еще… Качаются ветви лиственницы,
загораживают…
Мимо, зябко сутулясь, широким шагом проходит Петр
Мамонов:
— Хуже, чем при коммуняках! Наступило не смутное время, а
СМУТНЕЙШЕЕ! Не так ли, Михаил?
Михаил Задорнов, вглядываясь в надписи на
стеле:
— Наш демократический строй, Петр, самый лицемерный. И в советском
прошлом его хватало. Но не настолько же! Ты знаешь, что сказал мой отец, когда
увидел первый съезд депутатов?..
Мамонов остановился и, согнувшись
пополам, приложил ладонь к уху.
— Он сказал, — поднял палец Задорнов: —
“О, эти умнее коммунистов, значит, украдут больше”.
Качаются ветви
лиственницы. Не той ли, что крепилась корнями в распутинской Матере? А как же
они, землепашцы-правдолюбы, они что, не шестидесятники? Назывались по-другому,
жили своей дружиной, но тоже стремились к правде и справедливости. Качаются
ветви… И приоткрывается золотой герб с пятиконечной звездой, сияющей над
двуглавым орлом. Солоухин, Крупин, Распутин, Овечкин, Вампилов, Виктор Розов,
Саблин (капитан III ранга, замполит большого противолодочного корабля
“Сторожевой”)… Качаются ветви лиственницы.
Но тут в кадр решительно,
широким шагом раздвигая серую мини-юбочку, входит студентка в стройотрядовской
куртке, на голове — алая косынка. В руках — тряпка и ведро. Она тянется к верху
памятника так, что видны голубые жилочки под коленями. И тремя широкими взмахами
стирает, будто с классной доски, все имена-фамилии, а мелом… А мелом выводит —
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ.
Немелков первым прервал молчание:
— М-да, значит,
шестидесятники… Все под одним камнем? Нет, нас объединяли стены института и
родной Втузгородок, но мы были разные… Эх, за что боролись?
— На то и
напоролись?
— Не подходит пословица. Правильней сказать: за что боролись,
не на то напоролись! Разве ты не видишь, что делается в стране? Грабеж среди
бела дня!.. “Потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, не могу, не хочу
смотреть”. Поступок! Моя Раиса Петровна очень любила лирику Юлии Друниной… Хочу
задать тебе, автор, один-единственный вопрос… Можно?
— Подожди, Артур
Авенирович, сначала разберемся с моими. Давай посоветуемся. Имею ли я право в
своем повествовании осуждать тех, кто тогда заходился в припадочной ярости,
брызгая слюной, вопил с трибуны: “Антисоветчик!” — и был готов тебя изничтожить?
Ты всю жизнь был для меня, извини за пафос, примером честности и гражданской
порядочности. Но и тогда, в пятидесятые — шестидесятые, и в сегодняшние дни я
спрашиваю себя: если бы ты, Владимир Блинов, был в актовом зале УПИ в октябре
56-го, вышел бы ты на трибуну вслед за Артуром Немелковым? Ответь! Только
честно. Да, вместе со всеми ты аплодировал бы поступку ПЕРВОГО, безумно смелого,
рискового, падающего на амбразуру за нас, набравших в рот воды, долго дрожавших,
ожидающих перемен. Да, ты бы рьяно рукоплескал и даже, возможно, выкрикивал в
общем хоре: “Молодец, физтеховец! Даешь правду-матку!”. НО! — выступил бы ты с
поддержкой и развитием слова Немелкова? Отвечай! И я отвечаю честно, тебе,
Артур, и себе отвечаю: НЕ ЗНАЮ… Теперь спрашивай, о чем ты хотел
узнать?
И он, устало улыбнувшись, произнес:
— Ты, брат, уже
ответил на мой вопрос. Вспомни, сам Александр Сергеевич начертал под рисунком
казненных декабристов “И я бы мог”. Однако какой знак он поставил в конце
фразы?
— Не помню. Если бы не заяц… Слушай, а что стало с Георгием
Писчасовым?
— Высшей наградой для меня была поддержка зала, значит — не
один я думал, о чем решился сказать! Студенты проснулись! Спрашиваешь про Жору?
Не знаю, — Артур пожал плечами.
— Как так не знаешь? Это нехорошо, брат,
не знать…
— Ну, вот ты меня уже и осуждаешь. Не знаю — и все! Понимаю,
надо бы узнать.
— Артур, прошло полвека. Отмечалось ли пятидесятилетие
того события? Может быть, я пропустил? В газетах, в журналах, в зарубежной
прессе?
— Да-а-а! — Артур белозубо улыбнулся. — А как же иначе! Очень
даже широко было отмечено! Всем прогрессивным человечеством в лице… меня и моей
жены Раисы Петровны. Отличный был салат “Оливье”. Юбилейный. Слушай, а ты
случайно не пел на упийской сцене? Ах, ты же писака-“боксер”! Ну, все равно,
пойдем в гостиную, споем.
— Немелков, мы где? У тебя, в Челябе, или в
Екатеринбурге, на площади Кирова? Там, за окном, — Ленин ловит чугунной полой
ветер южноуральский, или Мироныч не перестает улыбаться ямками щек, не зная, не
ведая, что ждет впереди?
На правой руке Артура было повреждено сухожилие,
полускрюченные пальцы не слушались. И все же взял он гитару, прошелся по струнам
звонкоголосым. Вздохнув, отложил. Мы уселись на морщинистый старый диван, как
двойник, похожий на “боксовский”. Обняли друг друга за плечи.
И —
запели.
Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная…
Голос
его по-старчески вибрировал, но еще был достаточно силен и по-артистически, с
обертонами, профессионален. Не знаю, о чем он думал в этот момент. Может,
вспоминал первые любовные свидания, может, видел себя в освещении софитов на
сцене родного УПИ, может, представил голосующим за свое исключение из комсомола…
Но я почувствовал, мне так хотелось, он пел и думал о том, что произошло с ним,
Артуром Немелковым, полвека назад и стало на всю жизнь ОДНИМ ГЛАВНЫМ ДНЕМ, ЕГО
СУДЬБОЙ. И оттого я примолк, я смотрел на его скульптурно выразительное,
одухотворенное лицо, на прикрытые веки, на по-молодежному густые, непокорные
седые волосы и слушал, слушал…
Ты у меня одна заветная,
Другой не
будет никогда…
Другой не будет никогда.
Кашино —
Екатеринбург — Переделкино
2008–2010 гг.
НЕОБХОДИМОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ. И все же я нашел ее, Римму Викторовну Иванову. Здесь, на Урале. Семь
троллейбусных остановок и…
…Мы гуляем по дорожкам апрельского парка.
Солнечные соцветия мать-и-мачехи радуются ясному небу. Им, наивным, недоступны
прогнозы погоды. А по синему небу уже плывут тучки, напоминая меловые тряпки,
которыми стирались с аудиторных досок мудреные формулы высшей
математики…
Вот и понесло автора на расширение законченного было
повествования. А надо ли?
Мы гуляли, вспоминая пятьдесят шестой,
оттепель, эйфорию, надежду на хорошую погоду в нашем отечестве. Говорили и о
ПЕРВОМ, мятежном студенте, поднявшемся на трибуну.
Удивляла прекрасная
память моей немолодой спутницы и ее звонкий девический смех.
Припомнила
она и некоего студента И., которого отстаивала перед Евгением Казанцевым в
комитете комсомола. “Женя, не давайте хода этому делу, ведь заявление анонима,
которое он накатал на И., явно пропитано антисемитизмом! Ну, подумаешь, парень
рассказал пару анекдотов…”
Писать ли новую главу, заявить ли свежую
повесть? Уже не Римма Викторовна Иванова, совсем, совсем другие персонажи
становились для меня загадкой.
Из письма Ильи Войтовецкого: “…Коварный Вы
/Володя/ человек. Сварганили детективную историю, а закончили ее на самой
завораживающей фразе. Ну, а дальше-то что? Или — продолжение следует? Колитесь
уж до конца! Нашли Вы нашу с Вами героиню, поговорили с ней? Нельзя же так
испытывать нервную систему читателей”.
В чем же мне колоться? И мне ли в
данном случае колоться? Я встретился на аллее екатеринбургского парка с
человеком, с пожилой женщиной, которая всю жизнь отстаивала правду. Еще одна
наша, шестидесятница! И что же?..
На девятом десятке ее приговаривают к
расстрелу — словом. От свинцовой пули можно уклониться, можно защититься броней,
но от слова, да еще запущенного в мировую сеть…
И слово попало! В сердце.
Из кардиоцентра она вышла бледная, тихо улыбающаяся. Ее встречали два сына и
бывшие студенты-политехники с букетом осенних хризантем.
Из письма Артура
Немелкова: “Дорогой мой Владимир свет Александрович, из последнего твоего
послания узнал, что ты встречался с Риммой Викторовной и долго беседовал с ней о
прошлом и, наверное, о настоящем. Надеюсь, что все подозрения насчет
провокаторской деятельности Р.В. сняты и ты изложишь этот аспект в
дополнительной главке, а ту часть, что содержится в воспоминаниях Войтовецкого,
изымешь. Мне лично читать о какой-то неблаговидной деятельности Р.В. было не то
что неприятно, а даже больно, ибо в моей памяти она всегда оставалась человеком
кристально чистым, с некоторым оттенком божественности”.
…Ветер
решительно сдунул с небес набегавшие тучки. И солнце — как огромный цветок
мать-и-мачехи…
Как сказано у Александра Сергеевича, летопись окончена
моя.
Ну, что же, братья-шестидесятники, из тех, кто еще жив, куда нас,
мечтателей, эпоха занесла? Вот все вы, и живые, и мертвые, перед моими глазами
на фоне колоннады альма матер. Постойте, не расходитесь, сфотографируемся на
память. Так и хочется сказать, на ДОБРУЮ память. Где ваши улыбки? Скажите:
“Си-и-р!” А потом — дружно, хором, три-четыре:
…Смело в путь! —
Мы
тебя провожаем.
Счастлив будь, —
Мы твой путь освещаем…
О, как сердцу
милы и близки
Дорогого УПИ огоньки.
Учредитель – Правительство Свердловской области.
Свидетельство о регистрации №225 выдано Министерством печати и массовой информации РСФСР 17 октября 1990 г.
Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на "Урал" обязательна.
В случае размещения материалов в Интернет ссылка должна быть активной.